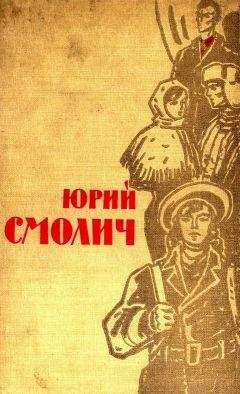— С «Наталки-Полтавки»!.. — откликнулись голоса со всех сторон.
Тогда я взял слово во второй раз для произнесения второй речи. Вторая получилась хуже. Я разъяснял, что такое самодеятельный театр и почему он должен быть коллективным от начала и до конца. Коллективное создание пьесы, коллективная работа над ролями, коллективный спектакль, коллективный… И я в третий раз спросил, с чего же нам начинать.
Все молчали…
Наконец нарушил молчание старый ночной сторож с седыми длинными усами.
— С «Наталки-Полтавки», я полагаю, надо начинать. Играл я, конечно, и Миколу, и Петра, и Возного, и этого самого, как его, тоже играл, и не раз. Словом, оно действительно получается вроде как индивидуальное действие. Но, конечно, раз теперь настала новая эпоха, то оно, конечно, можно временно и поступиться перед коллективом. Пусть, конечно, поиграют и те, которые помоложе. А мне к тому же и на дежурство пора…
И, пригладив седые усы, он пошел со сцены прочь. Около выхода он задержался еще на минутку.
— А начинать, — крикнул он, — конечно ж с «Наталки-Полтавки» надо. Пролетарский театр!..
Затем поднялся старый кондуктор и тоже ушел. За ним вышел и старый слесарь. Потом один из молодых телеграфистов и еще кто-то. Девушки хихикали, переругиваясь; они не уступали: пусть там и коллективный театр, а поступиться своим они не поступятся!
О, театр, театр! О, прекрасная голгофа!..
В нашем театре в это время я был главным образом председателем месткома. Роли я играл все небольшие — такие уж выпадали мне, да и, как видите, времени на это у меня не было.
Наш театр открывал свой первый сезон в столице Украины новой постановкой «Евген несчастный».
Несчастный Евген трагически декламировал, посылая проклятия войне и вообще всяким возможным войнам, а мы, весь состав театра, от премьеров до стажеров, изображали уродливых калек в рваных солдатских шинелях, на костылях, на деревяшках, на протезах, без ног, рук и носов, мы ползали вокруг несчастного Евгена в жутком нескончаемом ритме прогулки по кругу в тюремном дворе, зловеще хрипя только однотонное: «тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та…» И это был то просто пустой звук, голый ритм трагической тарабарщины Евгена, то треск барабана на плацу, то грохот пулеметов в траншеях… Зрителей бросало в дрожь, некоторые восторженно хлопали в ладоши, другие отплевывались и бежали прочь.
И это был шаг от массового романтико-героического спектакля, присущего нашему театру в прошлом, к пролеткультовской машинизации «массодрамы» вперемежку со средневековой мистерией. Кое-где ее разрывал яркий штрих гротескной карикатуры.
Спектакль провалился и для зрителей и для самого театра. И тогда снова хлынули на сцену одна за другой волны романтической героики: «Фуэнте Овехуна», «Сабатай Цеви», «Гайдамаки», «Герцогиня Падуанская», «Йола». Все это было, может, и неплохо, но всем своим естеством, если не содержанием, если не самим сюжетом, то тоном, настроением, приемом игры, — все это было еще там, в днях гражданской войны, в ритме и тоне фронта. А ведь бойцы уже разошлись из рот и батальонов по домам, к верстакам, к родне, женам и детям, друзьям, которые не умирали рядом с тобой в окопе, а работали рядом в цехе; враги теперь были не по ту сторону фронта, а попадались тут же рядом, иногда в том же цехе. И зритель, как и на фронте, хотел чувствовать искусство, как локоть товарища в строю. И он требовал. На это требование второй волной ударили на сцену одна за другой винниченковские псевдопсихологические мещанские драмы: «Черная пантера», «Грех» и «Ложь».
Быть может, не страшна была эклектика театра. Возможно, не страшно было и что зритель временно еще не получал того, что хотел. Страшнее было другое, и это действительно было страшно: зритель получал фальшивку. Вместо пусть и грубого схематического, примитивного в первом спектакле сопоставления старого мира с новым, столкновения их не только в вооруженной борьбе масс, но и в психологических концепциях, в борьбе против старых традиций капиталистического общества — этого хотел зритель и это было крайне необходимо, — он получал винниченковское «психоложничество», нездоровое самокопание в мелкой и путаной душонке «кирпатого Мефистофеля», неврастеника и двурушника.
И это была трагедия нашего театра, его актеров и его зрителя.
— Репертуар! — требовали все. И все были правы.
— Репертуар… — оправдывался театр. И он был прав.
— Репертуар? — скептически переспрашивали мы. И мы тоже были правы.
Дело было не только в репертуаре. За репертуаром стоял еще актер. Его манера игры, его традиции, его вкусы, его мировоззрение, вся его культура — случайная, эклектическая и просто недостаточная для подмостков центрального республиканского театра. А за актером стоял и режиссер и все художественное руководство театра, воспитанные на традициях романтики старого украинского этнографического театра и сошедшие с колеи в процессе беспредметной бунтарской «европеизации», и в результате дезориентированные и растерянные перед напором новых требований, новых идей и новых задач, вставших перед театром. А тут тебе еще все кругом новаторы, экспериментаторы, «искатели»! Все экспериментировали, все искали и все требовали: и Евреинов, и Пролеткульт, и Мейерхольд! Даже председатель месткома в самом театре чего-то искал и требовал, вместо того чтобы спокойно излагать мнение рабочей половины на заседаниях РКК.
А между тем искателям и новаторам тоже было нелегко.
Первая коллективная постановка в самодеятельном рабочем кружке на Основе или Новоселовке тем временем все же была готова. И была она коллективной от начала и до конца. Название придумывали сами, тему устанавливали тоже сами, сюжет скомпоновывали сами, и сами вместе написали текст. Что-то такое про международное положение и мировую революцию, с Эррио, Чемберленом, Муссолини, папой римским, белыми эмигрантами и восстанием рабочих в Руре. Роли были разучены, репетиции проведены, настал и первый спектакль.
Но на первый спектакль, на премьеру, я вынужден был немного опоздать — задерживали дела в собственном театре. Об этом я и уведомил мой самодеятельный кружок по телефону и разрешил поднимать занавес без меня, — все должно было быть хорошо, за начало — куплеты Эррио и Чемберлена — я был особенно спокоен. Все же, приехав, я поспешно выпрыгнул из трамвая и побежал через площадь к клубу, потому что вторая сцена — Муссолини и папа римский — нуждалась в моем присутствии. У входных дверей клуба в кожухе и валенках сидел ночной сторож: он в этом спектакле так и не был занят. Он приветствовал меня взмахом длинных усов из-под шапки-кучмы, надвинутой ниже бровей:
— Начали уже! Коллективное действие! Пусть и молодые поиграют! Хе-хе-хе…
В фойе уже было пусто, и, минуя дверь в залу, я поспешно шмыгнул в коридорчик, который вел за кулисы. Но вдруг я остановился как вкопанный.
Что это? За дверями зала я не услыхал речитатива Эррио и частушек Чемберлена. И хоровую декламацию белоэмигрантов я тоже не слышал. Из-за двери зала совершенно явственно долетала музыка, которой здесь совсем не должно было быть. Затем вступило сочное женское сопрано. Что за черт?
Сопрано выводило: «Видно шляхи полтавские…» Я рванул дверь в зал и застыл на пороге.
Прямо передо мной, на сцене, в свете рампы стояла Наталка-Полтавка, в лентах и венке… Она пела, и оркестр шел за нею на минорном ладу…
Сомнений не было. Это была «Наталка-Полтавка».
Воспользовавшись моим отсутствием, мой кружок в последнюю минуту швырнул прочь маски Чемберлена и папы римского и нарядился в корсетки и синие шаровары. Оказывается, они, тайком от меня, потихоньку готовили после репетиций с Чемберленом и Эррио «Наталку-Полтавку». Режиссировал старый ночной сторож. Зрителям было объявлено, что по непредвиденным обстоятельствам приходится одну постановку заменить другой. И зритель и актеры остались этим весьма довольны. Проблемы коллективного театра будущего не волновали их, они хотели театра сегодняшнего.
Не припоминаю уже, гнев или стыд были первыми моими проявлениями чувств. Но вторым чувством было желание: скорее отсюда прочь, подальше от коллективного театра будущего!.. Однако третье чувство превозмогло. Третье — было чувство упорства. Что ж, в конце концов и это было не такое уже плохое проявление той же самой самодеятельности.
Самодеятельная постановка провалилась. Так пусть живет самодеятельный театр!
В скором времени я совсем оставил профессиональный театр и целиком и полностью посвятил себя театру самодеятельному.
А впрочем, тут будет весьма кстати рассказать об одной встрече. Это была встреча совершенно неожиданная и очень важная для театра неизвестного актера.
В этот вечер в театре был торжественный спектакль. Самый большой завод нашего города, разрушенный в годы гражданской войны, был вновь отстроен и только вчера — значительно раньше против указанного правительством срока — достиг по выпуску продукции довоенного уровня и уже сегодня этот уровень превысил. Восстановительный период был закончен, начинался новый, созидательный период. По этому поводу в самом большом театре столицы был созван всенародный митинг, с торжественным спектаклем после него: театр брал шефство над заводом, завод брал шефство над театром. На новый творческий путь завод с театром должны были вступить плечо к плечу.