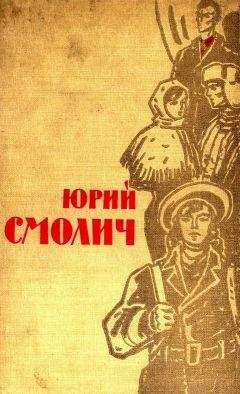В этот вечер в театре был торжественный спектакль. Самый большой завод нашего города, разрушенный в годы гражданской войны, был вновь отстроен и только вчера — значительно раньше против указанного правительством срока — достиг по выпуску продукции довоенного уровня и уже сегодня этот уровень превысил. Восстановительный период был закончен, начинался новый, созидательный период. По этому поводу в самом большом театре столицы был созван всенародный митинг, с торжественным спектаклем после него: театр брал шефство над заводом, завод брал шефство над театром. На новый творческий путь завод с театром должны были вступить плечо к плечу.
Митинг как раз закончился, в театральном зале стоял полумрак, представление через минуту должно было начаться, зрители уже сидели, и только члены президиума окончившегося митинга еще спешили занять свои места в первых рядах. Как раз в эту минуту и я, не присутствовавший на митинге, вошел в зал.
И вдруг одна фигура, пробиравшаяся в полумраке к своему месту, привлекла мое внимание. Я вгляделся внимательней еще раз. Шевеля широкими плечами, человек прошел в первый ряд и тяжело сел, глубоко погрузившись в кресло. Занавес уже пошел вверх, и профиль неизвестного сразу же как бы прирос к месту будущего действия. Я вгляделся в третий раз. Что-то волнующее и значительное было в этом профиле. Однако что именно, я сообразить не мог.
Я смотрел первое действие невнимательно и, только вспыхнул свет, быстро взглянул на места в первом ряду.
Из кресла в первом ряду поднимался приземистый, коренастый человек. Он был в свободном сером костюме, под мягким воротничком небрежно был повязан синий галстук в красную крапинку. Худощавое лицо, быстрый и проницательный взгляд, — вот-вот я уже должен был вспомнить, кому они принадлежали. Но серый костюм и синий галстук с красными крапинками как-то дробили цепь моих ассоциаций. Костюм и галстук мне ничего не говорили. Мой пристальный взгляд вынудил знакомого незнакомца тоже взглянуть в мою сторону. Он поглядел сперва невнимательно, потом сразу взглянул еще раз, пристально и пронизывающе, его левая бровь подскочила вверх, а правая рука машинально поднялась к голове и привычным движением поплыла вокруг бритой головы.
— Князь! — вскрикнул я, так как сразу же увидел на этой бритой голове матросскую бескозырку, а на плечах вместо досадного серого костюма — матросский рыжеватый бушлат. И я, отдавливая ноги соседям, бросился в первый ряд.
Брови у незнакомца сошлись на переносице, почти закрывая глаза, и, встречая меня взглядом, он глядел удивленно и сурово.
— Брось, братишка, о грехах молодости, — прохрипел он знакомым простуженным голосом.
— Товарищ комиссар! — поправился я, хватая его руку и радостно тряся ее.
— Было когда-то, — снова нахмурился он, но, однако, так пожал мою руку, что я вскрикнул и присел. — Что у тебя, язык отсохнет сказать просто: Никанор Иванович?
Мы упали друг другу в объятия, и зрители уже образовали вокруг нас толпу. Ведь было ясно — встретились и обнимались старые рубаки и однополчане. Мы отодвинулись, взглянули друг на друга и на секунду замерли. Нет, это таки была правда: передо мной стоял Князьковский, башенный с тральщика «Верный», командир одноименного бронепоезда, меценат сценических искусств, комиссар фронтового дивизионного театра. Агитпоезд «Кары панам, кары!», «Комиссаром театра буду я!..» Волнующие воспоминания нахлынули на меня. Мы снова обнялись, и Князьковский так прижал меня к своей широкой груди, что я чуть не задохнулся и застонал.
Через минуту мы уже стояли в театральной курилке и глядели друг на друга влюбленными глазами. И мы не знали, о чем надо было говорить и нужно ли было говорить вообще. У Князьковского снова было две ноги, только правая при каждом шаге немного поскрипывала шарнирами и винтами. У Князьковского были снова и обе руки, только на кисти левой была перчатка, и когда он зажал между пальцами театральную программку, пальцы у него не двинулись.
— Ну? — наконец заговорили мы. — Как? — спросили мы вместе и в один голос ответили: — Да помаленьку, как видишь…
Трудно это, разговориться старым друзьям после долгой разлуки.
— Ты ж кто? — докурив одну папиросу и принимаясь за другую, наконец поинтересовался Князьковский.
— А ты?
Князьковский двинул правой рукой вокруг бритой головы, словно передвигая матросскую бескозырку.
— А я, браток, в театре теперь только зритель. Жизнь идет вперед, и партия направила меня на другую деятельность. На этом самом заводе партийной организации секретарем я. Сам понимаешь, восстановительный период. Восстановили, а теперь двинем дальше. Таков боевой приказ.
И вдруг мне сделалось горько и грустно. Точнехонько так, как вот тогда на фронте, когда перед толпой опаленных дымом и окровавленных бойцов я должен был объявить начало сценки с изменой Пьеретты и любовью Пьеро. Вот передо мной снова стоял боец, который, получив боевой приказ, выполняет его немедленно и наилучшим образом. Боец, который по боевому приказу сумеет сделать все. Громить противника с оружием в руках, выявить и уничтожить затаившегося врага, отдать свою кровь и свою жизнь, создать из ничего театр, перевоспитать человека, воспитать самого себя, восстановить разрушенный завод, поставить новый. Ибо таков боевой приказ.
Мне сделалось грустно и горько. Не потому, что я чувствовал всю ничтожность моей актерской профессии перед жизненным величием этого человека. Нет! Наоборот, мне стало грустно и горько потому, что в эту минуту я снова особенно остро почувствовал все значение моей актерской профессии, все величие моего творческого труда. Князьковского-зрителя были достойны только Щепкин, Каратыгин, Элеонора Дузе — только колоссы театрального искусства.
И вот я стоял перед Князьковским — любитель, экспериментатор, «искатель», который еще ничего не нашел. И подобно тому как тогда меня непреодолимо влекло спрыгнуть с импровизированной сценической площадки, затереться в толпу бойцов, взять винтовку и идти в бой — в бой до тех пор, пока не дойдем до великого театра современности, на сцене которого будут стоять гении актерского мастерства, — так и теперь мне горячо хотелось попросить у Князьковского записку с приказом принять меня чернорабочим на строительство его завода. Но я тотчас же вспомнил Нюсю, которую остановила рука Князьковского, когда она схватила гранату убитого Довгорука, чтобы броситься в бой: «Тебе вечером играть в спектакле!..»
Запинаясь, я сообщил Князьковскому, что строю театр новый и категорически отрицаю и отбрасываю проклятое наследие старого, буржуазного мира.
Князьковский поднял левую бровь и пронизывающе взглянул на меня. Но в эту секунду зазвенел звонок, и он поспешно двинулся в зал, слегка поскрипывая своим протезом.
Второго действия я почти не смотрел: неожиданная встреча слишком взволновала меня. Кроме того, меня мучило и то, что в ответ на мои слова Князьковский поднял левую бровь. Это символизировало у него удивление и недоумение. Поэтому, как только закончилось второе действие, я схватил Князьковского за протез левой руки и быстро потащил снова в курилку. Торопясь и волнуясь, я стал выкладывать ему все мои тезисы об искусстве эпохи капитализма, об искусстве эпохи пролетарской революции и об искусстве времен коммунизма. Я дошел как раз до тезиса о вырождении буржуазного театрального искусства в капиталистической формации профессионального театра, никак не отвечающей духу эпохи пролетарской революции, а также антитезиса о самодеятельном театре как проявлении народного искусства и формации, сообразной эпохе пролетарской революции, — когда зазвенел неумолимый третий звонок и мы снова поспешили в зал.
Третьего действия для меня не было. На все мои тезисы и антитезисы Князьковский не ответил ни единым словом и только поднимал вверх то левую, то правую бровь. Очевидно, я выкладывал мои соображения не вполне вразумительно: ведь он все же не был специалистом в области философии искусства. И я готовился во время третьего антракта поведать ему обстоятельно о всех моих исканиях на пути создания театра для коммунистического общества.
Но как только мы снова очутились в курилке и я раскрыл было уже рот для длиннейшей тирады, Князьковский неожиданно перебил меня:
— А Сара Бернар, — сказал он, помрачнев лицом, — умерла-таки, знаешь…
— Сара Бернар? — удивился я, не поняв, при чем тут Сара Бернар.
— Да, — подтвердил Князьковский. — Сара Бернар, мировая актриса. Умерла только в июне прошлого года, а совсем не когда-то давно, как говорила тогда Нюся на фронте. — Князьковский еще больше помрачнел. — Э, знать бы тогда, что она еще жива!..
— Но, — удивился я, — Сара Бернар — французская актриса.
Князьковский сразу же рассердился: