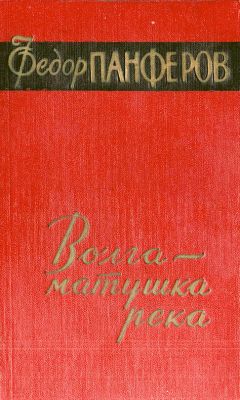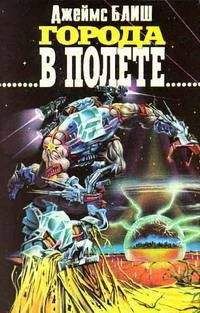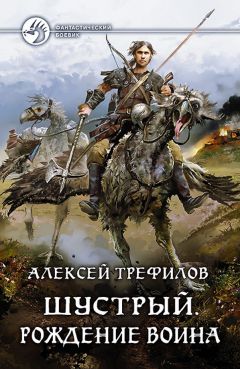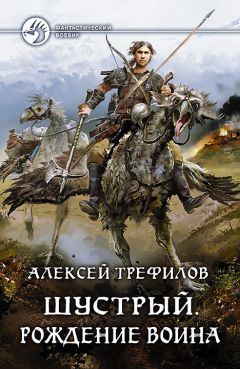— Э-э-э, — воскликнул Лосев и приподнялся со стула. — Ежели лошадка по инструкции «прощай», я не отвечаю… А вот ежели Синицына препарат применит и тогда лошадка «прощай» — мне по шее.
«Твою не пробьешь: жирна», — мелькнуло у Акима Морева, но сказал он другое:
— Хорошо. Мы обсудим на бюро обкома… и, вероятно, разрешим Синицыной применить препарат… Только вы уж не тормозите.
Лицо Лосева покрылось крупными капельками пота, узенькие, с белобрысыми ресницами глаза еще больше сузились, и он, взмахнув пухлыми руками, воскликнул:
— Ну! Мы — дисциплинированные. Бюро обкома для меня авторитет. Да пожалуйста. Все условия Синицыной создам. И еще… Почему она только рабочее поголовье хочет лечить?.. Пускай уж и элитное…
— Племенное? — спросил Аким Морев. — У вас и такие болеют анемией?
— Да, сколько угодно, в том же Степном, — и тут же Лосев добавил, с удивлением глядя на Акима Морева: — А Малинов говорил: гони Синицыну. Инструкция — закон, а Синицыну — гони!
«Ничего! Обломается этот боровок», — подумал Аким Морев, провожая глазами выходящего из кабинета Лосева, однако с сожалением проговорил:
— Как нужен мне Иван Евдокимович!
1
Скорый поезд прибыл в Москву в половине двенадцатого ночи…
Иван Евдокимович опасался, что помощник Шпагов, или, как его не без некоторых оснований называли, «обтекаемый человек», получив телеграмму о выезде академика из Приволжска, разгласит об этом и тогда на перрон явятся все, кому не лень.
Но на перроне академика ждали только Шпагов и домашняя работница Уля — женщина рослая, любительница поудивляться.
— Вот и приехал, — сказал Иван Евдокимович, здороваясь с ними.
— Ах!.. Ах, приехали? — И Уля удивилась, будто чему-то неожиданному и даже невозможному.
Иван Евдокимович в недоумении посмотрел на нее, но, вспомнив эту ее особенность, спросил:
— Как дела дома?
— Ах!.. Ах, дома? Хорошо. Чистенько. Дворничиха опять загуляла, опять взаймы денег взяла. Опять Виктор Иванович был.
— Виктор? — Иван Евдокимович даже приостановился.
Но тут на сцену выступил Шпагов. Он высоко ценил Ивана Евдокимовича как ученого, однако знал и слабые его стороны: раздражительность, вспыльчивость, прямоту в суждениях, резкие, порою даже грубые ответы, и, зная эти особенности характера академика, Шпагов умел все смягчить или, как он выражался, «ликвидировать». Сейчас он ничего не сказал, а только легонько дернул за рукав Улю, полагая, что Иван Евдокимович этого не заметит, но тот сурово произнес:
— Одергиваете? Вы!
— Да чего особенного? — заговорил Шпагов, как о каком-то пустячке. — Ну, был. Ну, опять пьяненький… Первый раз, что ли?
Виктор, сын Ивана Евдокимовича, «прошел» ряд факультетов: сначала поступил на исторический, затем со второго курса переправился на геологический, заявив отцу: «История мне опротивела. Я же всегда увлекался геологией». А со второго курса геологического, уже тайком от отца, но с разрешения матери, перекочевал на медицинский и… и наконец с трудом, еле-еле получил диплом в инженерно-строительном институте. По окончании института он прежде всего женился, на работу не поступил (хотя отцу сказал, что устроился на одном из подмосковных заводов), о чем Иван Евдокимович узнал только после смерти своей жены, и возможно, что именно эта горестная тайна и доконала ее — женщину доверчивую, слабую, мягкосердечную. После ее смерти открылось, что сын Виктор нигде не работает, имеет от врачебной комиссии справку о том, что у него настолько слабое сердце, что владелец такого сердца находится на грани смерти.
— То-то он и пьет, как лошадь, — зло вырвалось тогда у Ивана Евдокимовича. — Гнать, Шпагов! Гнать из дому. У меня нет сына. Есть однофамилец. Мало ли на земле Бахаревых. Гнать! Пусть поголодает, глотнет вдосталь нужды, тогда одумается, станет человеком. Ну и пусть. У меня больше дел нет, как только нянчиться с бездельниками? Мальчик! До двадцати четырех лет мать звала его: «Мальчик», «Наш мальчик». А мальчик этот уже жену завел.
Шпагов вспышку академика признал вполне уместной и справедливой, но ответил:
— Хорошо. Вы для него сделали все возможное, я он… Понимаю, Иван Евдокимович, в сердце сына нет. Но… но надо поступить разумно.
— А я что — неразумно? Может, делать так, как мамаша: сынок пакостил, а она его по головке гладила? Так, что ль? Научите!
— Нет. Но ведь у вас есть враги. И те скажут: «Единственного сына Бахарев не сумел воспитать, а других учит».
Иван Евдокимович задумался.
«Да, — мысленно упрекал он себя. — Единственного сына не смог воспитать, и в этом, конечно, моя вина: надо было запретить болтаться по факультетам и быть более суровым, а то деньги брал в столе… несчитанные… сколько угодно… и транжирил на что хотел. Барчук! Но ведь я не желал ему плохого. Думал: пусть не тратит время, силы на поиски средств, чтобы купить учебники, штаны, ботинки. Молодые годы следует отдать на учебу, на завоевание науки… Вот и завоевал».
Шпагов, не нарушая раздумья академика, выжидая, перебирал лежащие на столе новые книги и в нужную секунду сказал:
— Его, Виктора, отделить бы, и без шума. Справка от врачей: находится на грани смерти… Ну и пусть живет на даче.
Так Виктор был отселен, и Иван Евдокимович стал всем говорить, опуская глаза:
— Болен. Требуется свежий воздух. Вот какая квелая молодежь пошла, — с грустью добавлял он, обрывая расспросы.
После переселения Виктора на дачу Шпагов уговорил его лечиться и направил в институт, где «ставили на ноги» самых заядлых алкоголиков. Это произошло перед поездкой Ивана Евдокимовича в Приволжск. Значит, и знаменитый институт не исправил сына академика Бахарева.
Иван Евдокимович фыркнул, выйдя на обширную, залитую электрическим светом привокзальную площадь, и здесь проговорил, словно кого-то убеждая: — Я пью по-воробьиному, отец мой совсем не пил. Дед Вениамин Павлович… но ведь тот начал пить на склоне лет, чтобы горе залить. Значит, от него по наследству? А если бы Вениамин Павлович застрелился? Тогда и это по наследству моему сынку? Чепуха! Чушь! — Он посмотрел на красивую площадь, наполовину заставленную такси, на небо, усыпанное трепетными звездами, и, обращаясь к Шпагову, сказал: — Вы домой. Завтра увидимся. И вы, Уля, домой. А я пройдусь. — И, несмотря на протесты Шпагова, академик зашагал, пересекая наискосок площадь, шепча: — Аннушка, Аннушка! Дойдет до тебя, каков он, мой сыночек, и отвернешься от меня, скажешь: «Я хоть и не академик, а сына воспитала хорошего, а ты академик, а сын у тебя гроша ломаного не стоит».
На крышах домов, на козырьках парадных подъездов, на подоконниках и даже на оголенных ветвях лип — всюду лежал густой снег, а ведь еще только позавчера Иван Евдокимович был там, где пылает горячее солнце, где под ногами, как рассыпанные сухари, хрустят пересушенные травы.
«Необъятная страна, — подумал он. — В один и тот же день в Армении, Грузии цветут розы, зреет рис, на Черных землях наступает вторая весна, в Сибири, особенно на севере, морозы сковали реки, в Казахстане еще принимают солнечные ванны, а в Москве выпал первый обильный снег. Чудесная страна, чудесные люди… Конечно, не все, к сожалению, не все: есть и дрянь, вроде моего… Нет у меня сына. Нет!»
Рассуждая так, он улочками вышел на соседнюю с привокзальной площадь и отсюда увидел, как вдалеке, на Ленинских горах, все залитое электрическим светом, высится над Москвой здание нового университета, откуда скоро тысячами будут выходить молодые специалисты.
— Разум Советского Союза, — вырвалось у академика, и перед ним встала вся страна, с ее заводами, фабриками, с крупнейшими гидростанциями, с новыми морями. «Да, мы преобразуем природу, но преобразуем и науку, — мысленно с гордостью произнес он. — И надо… надо как можно быстрее отправляться туда, чтобы применить свои знания в борьбе со злыми силами природы».
Вскоре он очутился в Главпочтамте и здесь написал телеграмму Акиму Мореву:
«Уверен, правительство разрешит открыть в Приволжской области отделение Академии наук. По этому случаю прошу мне приготовить уголок в городе. Вероятно, скоро выеду. Ваш друг Бахарев».
2
В часы приема посетителей первым секретарем обкома Петин, неукоснительно соблюдая очередь, привычно разбирал обильную почту: одни письма направлял в отделы обкома, другие придерживал у себя, чтобы по вопросам, поставленным в письмах, навести соответствующие справки, третьи откладывал на личный просмотр Акиму Мореву. В груде пакетов Петин натолкнулся на телеграмму академика Бахарева. Он тут же отнес ее Акиму Мореву и, кладя на стол, сказал:
— Уже в Москве наш академик.
Ознакомившись с содержанием телеграммы, Аким Морев радостно подумал: «Хорошо. Все хорошо! Собирается сюда, открывает отделение Академии наук… И это хорошо — уголок просит. Вот я ему половину своей квартиры и передам», — и проговорил, обращаясь к Петину: