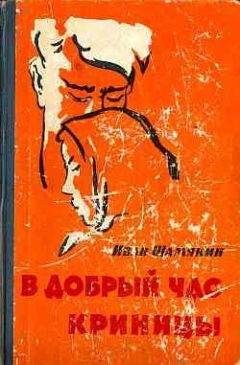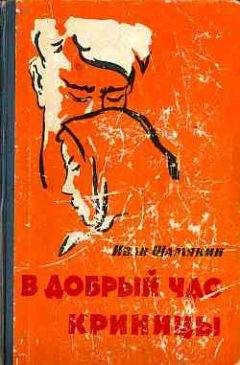— А судьба человека — для вас не важное дело? — спросил Малашенко.
Бородка быстро повернулся к нему.
— Не о судьбе шла речь, Петр Андреевич! Речь шла о критической заметке, каких десяток в каждой газете. Редактор сообщил, что есть письмо преподавателей, в котором критикуется директор. А у товарища Лемяшевича были ошибки… были, он сам не станет отрицать. Мне рассказывали коммунисты, колхозники. Случалось, пропускал и чарку товарищ… И в лавке запирались с бывшим председателем колхоза и с предсельсовета, был такой факт… Мне об этом тоже рассказывали… Так почему, рассудил я, для пользы дела не покритиковать молодого работника? Неужели сразу нужны организационные выводы? Критика — лучший метод воспитания.
— Странно вы пользуетесь этим методом, — сказал Журавский, который специально приехал на заседание бюро, так как письма о фельетоне были получены не только в обкоме, но и в ЦК. Это шло не по его отделу, но он решил поехать сам. Роман Карпович поднял газету с фельетоном. — А если б все это оказалось правдой, вы что же, не сделали бы выводов?
— Товарищи! — с большим пылом и убедительностью заговорил Бородка. — Я не знал содержания всего фельетона, я имел в виду обыкновенную заметку.
— Неправда! — возмущенно крикнул Стуков. — Я прочитал тебе весь фельетон!
Бородка пожал плечами.
— Не помню. У меня было бюро. Кстати, я не привык решать дела по телефону.
— О нервах ты помнишь.
— О каких нервах?
— Ты ругался, что не дают покоя, что у тебя и без того забот хватает. Я посоветовал тебе полечить нервы…
— Полечите свои, товарищ Стуков. Фантазия у вас журналистская… Не выдавайте плоды своей фантазии за факты… А мне и в самом деле не до ваших редакционных дел!
Стуков разволновался ещё больше, вспотел, придвинул к себе свои бумажки, хватаясь за них, как за якорь спасения.
— И не верю я вам, что у вас шло бюро. В присутствии посторонних так не разговаривают!..
— Успокойтесь, товарищ Стуков, — остановил его Журавский, внимательно слушавший их спор.
Стуков опять отодвинул бумажки и вытер лысину. Бородка со злостью кинул ему:
— Хотите свалить с больной головы на здоровую…
— Головы одинаковые, — заметил секретарь обкома и сурово спросил: — У вас всё, товарищ Бородка?
Теперь Лемяшевичу наконец стало ясно, как и почему появился фельетон. Но ему ещё больше захотелось узнать, кто же автор. Кто написал этот поклёп? И как это он так хитро замаскировался?
Об этом он и сказал. Сказал, что теперь не сомневается, что писали не двое, а один, и что человек этот находится у них в коллективе в Криницах; что субъект такой страшен — уж если он умеет так маскироваться, то, верно, не впервой ему писать анонимки, не впервой клеветать. О своих отношениях с Бородкой он промолчал, счел нетактичным говорить о них здесь, только честно рассказал о выпивке в сельпо, о которой опять упоминал Бородка, и заметил, что у секретаря райкома было довольно времени, чтоб разобраться в этом факте. Ведь разобрался же инструктор обкома, учёл все обстоятельства. Нельзя руководителю без конца попрекать подначального за небольшую ошибку. Очень возможно, что эти попрёки и дали какому-то мерзавцу основание возвести поклёп.
Пока Лемяшевич говорил, Бородка не поднимал головы, рисуя на бумаге большие замысловатые буквы. Но когда Лемяшевич кончил, он взглянул на него и дружелюбно улыбнулся, как бы одобряя все, что тот сказал.
Выступали члены бюро, и все крепко критиковали газету и Стукова, три месяца замещавшего больного редактора, критиковали порочный кабинетный стиль работы, вспоминали другие ошибочные выступления газеты.
— У вас же, товарищ Стуков, дошло до того, что «лучший» ваш корреспондент Курлович, не выходя из собственной квартиры, давал письма об уборке из Светловского района. А на самом деле он полгода не был там! — говорил секретарь обкома по пропаганде. — А это, оказывается, и ваш стиль работы. И вы собираете материал по телефону.
Стуков сидел понурив голову и молчал.
Бородку задевали мало, между прочим, рикошетом, как говорится. И он опять сидел, закинув руки за спинку стула, спокойный, самоуверенный, смотрел на выступающих и изредка в знак согласия кивал головой.
Поднялся Малашенко, привычным жестом пригладил волосы, написал красным карандашом на бумаге какие-то цифры и начал говорить — без отступлений, сразу о деле.
— Тут правильно говорили о редакции, о стиле работы. Я не буду повторяться. Ясно. Газета, наша газета, товарищи, орган обкома — вдумайтесь в это! — оклеветала трех честных коммунистов. Это вызвало решительный протест интеллигенции, колхозников, учащихся. Писали коллективно и в одиночку, в редакцию и в обком… Вот они, письма! — Он взял пачку листков из ученических тетрадей и конвертов, сколотых скрепкой. — Они — свидетельство того, как живо, с какой активностью реагируют простые люди на выступления печати. Подумайте об этом, товарищ Стуков. Обсудите письма у себя в редакции. Да, именно обсудите! Однако я хочу сказать о другом… О человеке, по чьей вине появился этот, с позволения сказать, «клеветон», как его справедливо назвали в одном письме, — о вас, товарищ Бородка! — Голос секретаря обкома зазвучал сурово.
Бородка заметно вздрогнул и уставился на говорившего.
— Вы тут прикинулись, что ничего не помните, что у вас шло бюро, что вы решали более важные дела. А человек, коммунист — это для вас не важно?.. А если б вам позвонили, например, об аресте Лемяшевича, вы тоже отмахнулись бы, санкционировали бы, не вникая в суть?.. Вы продолжали бы решать «важные дела»?..
По лицу Бородки пошли красные пятна.
— Вы забыли, что все дела в партии решаются с людьми и для людей. Нет у нас дел абстрактных. А вы, товарищ Бородка, помня о «деле», забываете о людях.
Присутствующие посматривали на Бородку, ожидая его реплик, протестов, зная, как метко он умеет бросать эти реплики, сбивать ораторов. А с Малашенко он на «ты» — старые приятели, и потому вряд ли Бородка растеряется и сейчас. Но, ко всеобщему удивлению, Бородка молчал и даже не смотрел на выступающего, а разглядывал свои большие красные руки, лежавшие на столе, на листах чистой бумаги. Его поразило одно обстоятельство: слова Малашенко казались удивительно знакомыми, где-то он их уже слышал. Но когда и от кого? Он никак не мог припомнить, и это мешало ему непосредственно реагировать на обвинения секретаря обкома.
— А в данном случае Бородка просто утратил принципиальность и объективность партийного руководителя. Он отомстил Лемяшевичу за критику…
Артем Захарович вдруг вспомнил, кто раньше говорил эти же слова, — Волотович, — и быстро повернул голову, набычился, готовый ринуться в бой.
— Лемяшевич возмущался некоторыми аморальными поступками секретаря райкома…
— Я протестую! — Бородка хлопнул ладонью по столу.
— Против чего вы протестуете? — резко спросил Малашенко, подавшись вперед.
— Вы не имеете права!
— Что? Вас критиковать?
Кто-то из членов бюро засмеялся. Журавский перешел от окна, где он сидел до сих пор, к столу секретаря, сел рядом с Малашенко и спокойно сказал:
— Товарищ Бородка! Не забывайте, что вы на бюро обкома… а не у себя в районе, где, говорят, вас и в самом деле боятся критиковать. Лемяшевич вот попробовал… так вы тут же хотели перевести его в другую школу. А проще говоря — выжить. Не вышло…
— Обком вмешался, потому не вышло, — подхватил Малашенко. — Нет, товарищ Бородка, члены бюро должны знать всю подоплеку… И должен вас предупредить: если вы не сделаете надлежащих выводов, мы ещё вернемся к вашему поведению… Учтите. А вы, товарищ Лемяшевич, напрасно тут проявили ненужное благородство и не рассказали, как от вас хотели избавиться… Или тоже испугались? Вы хорошо начали… Так и продолжайте—режьте правду в глаза. Принципиальных людей партия всегда поддержит! Думаю, товарищи, все ясно? Предлагаю Стукову и Бородке за потерю принципиальности объявить выговор… Есть другие предложения?
Стуков вздохнул явно с облегчением и что-то зашептал своему соседу.
Бородка тяжело встал, оперся карандашом о стол, карандаш сломался, он с раздражением бросил его.
— Я протестую против такого решения!.. Я член обкома. Я буду жаловаться в ЦК…
— Пожалуйста. Ваше, право, — сказал Журавский.
— Вы навязываете членам бюро свою волю. Нарушаете партийную демократию!
— Не знал, что ты такой защитник демократии, — усмехнулся Малашенко.
— Почему «навязываем»? Мы высказали свою мысль, внесли предложение… А вы доказывайте, что это не так. Доказывайте, что вы правы. Я лично так понимаю демократию, — Журавский развел руками.
Бородка ничего доказывать не стал, сел на место.
— А может быть, чересчур строго, Петр Андреевич? — неуверенно спросил председатель облисполкома, добродушный толстяк. — Может, предупредим?