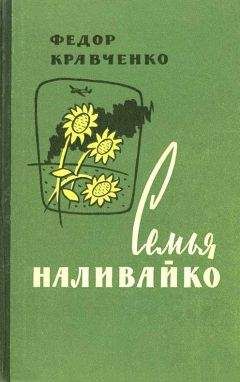— У меня не ершит?
Он волновался потому, что Гриша, делая оконные рамы, все же отрывался на минуту, чтобы взглянуть на тех, кто мастерил крышу, и крикнуть предостерегающе: «Эгей, поменьше делайте ершей!»
Тетка Варвара забежала к нам на минутку и похвалила Наташу, начавшую особенно старательно прилаживать камышовые снопики к стропилам. Но тут же она сказала такое, что я чуть было не свалился с крыши:
— Хорошо крой хату, Наташка, может, и тебе придется тут жить!
— Все может случиться… — прибавил Гриша смеясь.
Ну и вспылил я… Что это они, будто сговорились?
Я не собираюсь жениться на Наташе… Вот еще..
Но разве я мог высказать это вслух? Я только кипел и убеждал самого себя, что этого никогда не случится. Да она мне вовсе и не нравится. Ведь Наташа-то и на девушку мало похожа. Носит какую-то мужскую шапку, под которой полностью умещаются ее короткие косички. По-прежнему одета в солдатский ватник и сшитую из грубого сукна юбку; на ногах — старые кирзовые сапоги. (Так одели и обули ее в партизанском отряде.)
Мне, по правде сказать, больно было смотреть на нее. Раньше я ломал голову над тем, где раздобыть ей шелку на блузку и хорошей шерсти на пальто. Но теперь мне хотелось самого себя убедить, что эта девушка мало чем отличается от своего брата Степы. Это было несправедливо. Ведь она — при любых условиях — старательно умывалась, причесывалась… Еще там, в землянке, тетка Варвара называла ее «чистюлей». По утрам было приятно смотреть на ее круглое личико, освещенное большими голубыми глазами, словно двумя фонариками. (Эти светлые глаза с длинными ресницами как-то особенно выделялись на ее смуглом лице.)
Гриша отлично видел, что я сконфузился, но еще подлил масла в огонь:
— Да если б мне не на фронт… Я бы и сам на такой девушке женился. Девушка-то, что надо! Пожалуй, ты, Андрей, и недостоин ее. Ты только погляди: она же — огонь!
Наташа продолжала работать, не оглядываясь, словно ее и не касались все эти реплики.
А вечером она боялась посмотреть на меня. И мне было как-то не по себе. Впрочем, не решаясь глядеть ей прямо в глаза, я теперь чаще посматривал на нее украдкой. И, честное слово, я впервые начал замечать, что она, в сущности, хорошенькая. Но, боже мой, как портит ее эта партизанская одежда, обувь…
Степа, этот удивительно смелый и смышленый паренек, стал относиться ко мне так, будто я и в самом деле уже породнился с ним. Он порой обнимал меня, развязно говорил: «Ты, брат, не думай, что я маленький». Или: «Ну, братуха, пойдем к Полевому».
«Брат… братуха…» И вообще — панибратство какое-то… В присутствии взрослых я просто не переносил этого… А он, как назло, всюду подчеркивал, что мы, дескать, «равные», потому что вместе партизанили.
Даже Наташа это заметила и решила урезонить брата:
— Если ты будешь так вести себя, Степа, придется мне с тобой в Яруги переехать…
Кажется, это испугало его.
Все напряженно ждали Настю Максименко. И больше всех волновалась Наташа. Я только теперь узнал, что она кое-что смыслит в животноводстве и ветеринарии. Вместе со Степой и другими ребятами она занялась лечением покрытых коростой трофейных лошадей. (Они окуривали их серой, обмывали зеленым мылом.)
Она (радовалась, рассказывая матери о том, как постепенно пополняется колхозное поголовье!
Теперь должны были пригнать в колхоз большое стадо коров.
Поздно вечером я приходил в дом тетки Варвары. Коптилка слабо освещала стены, украшенные вырезанными из газет картинками. За окнами все еще не утихал говор; скрипел колодезный журавль, позвякивала сбруя. Как-то еще несмело звучала песня. Вдруг на мгновение все звуки заглушал паровозный гудок. И казалось, что в Сороках никогда не было войны, что за окнами тянутся во все концы села знакомые с детства колхозные постройки; живет и весело шумит двор, заполненный тракторами, сеялками, комбайнами… Возвышается силосная башня над бесконечно длинным коровником. Неумолчно шелестит жестью и лопочет ветряной двигатель… Горят на столбах яркие электрические фонари…
Мать настороженно прислушивалась к шуму, доносившемуся с улицы, и спрашивала:
— Ну, что сегодня сделали? Крышу на коровнике кончили?
— Кончили.
— А пол в свинарнике?
— Тоже готов.
— Добре. — Мать улыбалась. — Нам, сынок, спешить надо, а то Сидор Захарыч вернется и спросит, что мы тут делали, пока он воевал.
Вдруг она прибавила со вздохом:
— Такая пора горячая, а я лежу. Совестно перед людьми. Зачем только они выбрали меня, такую хворую, в председатели.
— Вы же отсюда всеми командуете, — успокаивал я ее. — Как с капитанского мостика на корабле.
— Капитану все видно, а я лежу, как слепая. Вы там без меня хозяйничаете! Агрономы доморощенные… Эх, зря я Максима из своих рук выпустила!
Мать охотно говорила о предстоящей встрече с Максимом. Затем она опять высказывалась насчет хозяйства:
— Землю надо будет трактором пахать. Много ее…
— Скоро и тракторы в ход пойдут. Софья с девчатами старается, ремонтирует.
Мать внимательно глядела на меня, словно проверяла, правду ли я говорю. Глаза ее становились беспокойными и мигали. Над переносицей появлялись глубокие морщины. И вдруг я с ужасом заметил, что мать, в сущности, очень изменилась за два года, стала совсем старухой.
— Когда поправлюсь, — шептала она, — съездим туда, где Петр остался.
Она не сказала «погиб». Я осторожно возразил:
— Зачем, мама? Разве мы найдем то место?
— Надо найти.
— Он с нами везде, мама. Где мы, там и он… наш Петя…
— Нет, нет, то место знают, где он с фашистами бился. Люди там уже памятник поставили. Кто-то камень обтесал и на том месте поставил, где Петин танк сгорел.
Мать закрыла глаза, но губы ее продолжали шептать:
— Я по почте разыскала людей, которые видели его в тот день.
В следующую минуту она спросила, пугаясь собственных мыслей:
— А как ты думаешь, Андрей, почему Виктор писать перестал? Может, с ним что случилось? Наши теперь все время наступают; ему, бедному, и передохнуть некогда.
— Да, ему теперь некогда, — сказал я.
— Ему всегда было некогда, но писал все-таки. — А теперь… — Мать протяжно вздохнула. — Я его известила, что в Сороки еду, домой, а он — ни слова.
Я старался отвлечь ее от этих мыслей, говоря:
— А Максим какой! Кто думал, что он станет настоящим воякой?
— Я тоже не думала, — призналась мать. — Ну, фашисты всех вояками сделали. Вот Никита и тот воевал. А что ж Максим? Он у нас сильный. — Мать закрыла глаза и улыбнулась. — Вот придет такой день, и все опять соберутся. Виктор, наверное, тоже не один приедет. А что ж, он уже давно мог жениться, если б не война… Ну, ничего, успеет. Ух, и внуков же будет у меня!..
Мать радостно засмеялась. Мне самому стало весело, и я сказал:
— Да, нашему соколу и жениться некогда. Он все летает… летает… Был ранен, машины терял, как запорожцы когда-то коней теряли. Но все воюет. Я даже не знаю, что он будет делать, когда война кончится. Если не женится, то совсем заскучает, наверно.
— Женится, обязательно женится, — сказала мать. — А потом вокруг земли полетит; Чкалов не успел, так наш Виктор махнет.
Глаза матери вспыхнули и вдруг снова погасли.
Я догадался: ее по-прежнему тревожило молчание Виктора. И я сказал, пытаясь развлечь мать:
— Хотите, я сказку расскажу.
— Что ж я, маленькая?
Она долго лежала молча с открытыми глазами, о чем-то напряженно думая. Потом опять сказала:
— Понять не могу: что ж это случилось с Виктором? Все время аккуратно писал, а теперь молчит.
Я сказал матери, что уже можно вернуться в нашу хату. Она поднялась, с постели и удивленно посмотрела на меня, на Варвару. Затем как-то по-детски потянулась и рассмеялась:
— Пойду домой.
Она накинула на плечи большой платок, в котором когда-то ходила на базар, и, слегка пошатываясь, вышла.
В этот тихий вечерний час так приятно было смотреть на новые крыши домов, на сверкающие стекла окон и порозовевшие стены. Мать остановилась посреди улицы, посмотрела на выглядывающую из-за плетня крышу хаты и снова рассмеялась. Не было никакого сомнения: это наш дом.
Она изумленно рассматривала двор и вдруг заметила клумбу, на которой уже зеленели первые листочки цветов.
— Смотри, Андрей, — сказала она тихо. — Война два раза тут прошла, а они все-таки живут.
Мы вошли в комнату, где Софья и Наташа вешали занавески. Я узнал их, эти белые, с вышитыми красными маками занавески, побывавшие с матерью везде, где она Странствовала. В углу Гриша налаживал радиорепродуктор.
— Не мог вытерпеть, пока все наладим, — бубнил он. — Вот торопливый…
У него, капитана, я впервые заметил детскую обиду на лице. И я был этим очень доволен.