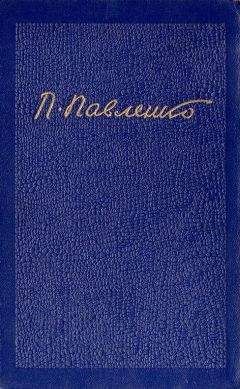— Ты можешь увидеть ее сейчас, сегодня…
— Ты говорил мне, что она очень маленькая, худенькая, что она будет среди нас как ребенок. Мы будем ее баловать, хорошо? Я буду ее слушаться во всем, обещаю тебе. Как хорошо, что у меня будет мама, маленькая и строгая… И добрая… Но почему же ты такой большой, плотный, сильный? Приятно владеть сильным и послушным существом… Слушайся меня, слушайся во всем, что тебе по сердцу. Ты согласен? Так будет правильно, да?
Готовился отплыть следующий ялик, собирались пассажиры.
— Эй, кто едет, не оставайся! — кричал яличник.
— Аня, сядем в этот ялик! — умолял Степан.
— Он отойдет не скоро. Побродим по площади. Будет еще много яликов.
Свет уличного фонаря упал на ее лицо. Степану показалось, что она улыбается печально.
Много яликов отошло с тех пор от дощатой скрипучей пристани, и среди пассажиров все не было и не было Ани, его любви и счастья. Но в тот вечер они расстались уверенные, что это случится скоро, очень скоро, и эта уверенность удесятерила силы Степана, когда он дома сел за работу.
Перед глазами неотступно стояло лицо Ани, изменившееся, повзрослевшее в последние дни. Неутоленная жажда любви сделала ее взгляд глубже, рисунок губ стал чуть резче, улыбка потеряла прежнюю беспечность, а голос — прежнюю усмешливость.
В ночной тишине он уже слышал ее шаги, представлял словно наяву, как Аня войдет в их комнату, плотнее задернет занавески, поправит цветы на столе и молча, глядя ему в глаза, вынет перо из его внезапно ослабевших пальцев.
Он окинул взглядом комнату, обставленную просто, даже бедно. Нынешнее жилье девушки по сравнению с этой комнатой было роскошным. Ну и что же? Пусть бородач гонится за обстановкой дамы пик, а им с Аней будет хорошо здесь…
Далеко за полночь Степан поставил точку в третьем очерке и удивился тому, что успел сделать так много. Он перечитал все написанное — ему понравилось. Перечитал снова, уже медленно и холодно, глазами придирчивого и желчного редактора, читающего вещь еще не проверенного, начинающего автора. Нет, как много несовершенного, приблизительного! Плохо! По опыту Степан уже знал, что в таких случаях надо отложить рукопись хотя бы на несколько часов и вернуться к ней одним прыжком, застать врасплох эти фразы, которые еще колеблются, струятся в ожидании окончательного завершения, найти для них окончательную форму.
Первые лучи солнца разбудили его, и он, повторив недавний рискованный опыт Мишука, выпрыгнул в окно на пляж, с разбегу бросил себя в прохладную, румяную воду и вернулся на берег, чувствуя каждый мускул, слыша горячий, стремительный бег крови в жилах. И как хорошо пошло дело, когда он сел переписывать очерки заново!
— Мама, дней через десять я приведу к нам Аню навсегда… Она просит меня передать тебе, что она любит тебя и постарается, чтобы ты тоже полюбила ее, — сказал Степан, войдя в столовую и целуя мать. — Вот мой поцелуй, а вот ее, Ани…
Раиса Павловна, готовившая стол к завтраку, чуть не уронила чашку, встала, снова села и поскорее поставила чашку на место — так ослабели вдруг ее руки.
— Значит… значит, решено? — спросила она вполголоса вздрогнувшими губами. — Постой, дай я тебя тоже поцелую…
— Все решено, мама. Через неделю, через десять дней Аня станет твоей дочерью.
— Когда вы повенчаетесь?
— Мы зарегистрируемся, как только она вернется из Симферополя… Правда, ее отец требует, чтобы все было сделано по-старому, со свадьбой, приданым… Это мещанин, мама.
Он рассказал ей все о Петре Васильевиче.
— И, если ее отец не оставит обывательщины, если он будет настаивать на всем этом, мы просто переплывем бухту, придем к тебе, обнимем вот так, и ты назовешь нас мужем и женой, ты обвенчаешь нас одним своим словом навсегда, на всю жизнь. Нас ничто не остановит и не разлучит — ничто и никто! Мы любим друг друга, мама… Разве этого недостаточно, скажи?
Мать смотрела на него почти со страхом, ее маленькое личико побледнело.
— Степа, ведь это угар, горячка… — беспомощно проговорила она. — Вы думаете только о себе…
— И о тебе, мама, потому что ты с нами, ты хочешь нашего счастья. О ком же нам еще думать?..
— Угар, горячка… — повторяла мать. — Иди сюда.
Он наклонился к ней.
— Я против того, что вы задумали. Надо считаться с ее отцом. Она его единственная дочь, как ты у меня.
Он ждал. В ее глазах заблестели слезы, слабые руки легли на его плечи.
— Но если иначе нельзя… совсем нельзя… Если это случится… Привези Аню, я полюблю ее. Потом все устроится.
— Мама, моя мама!.. — Он решил вдруг: — А если я привезу ее сегодня? Постараюсь привезти сегодня!
— Сегодня? Так скоро?.. Но ведь ничего не готово!.. — воскликнула она. Как-то заторопилась, засуетилась, но через миг пришла в себя, махнула рукой и усмехнулась: — Все равно… Уж все равно, Степа. Тут ничего не поделаешь, правда? Вы любите друг друга и должны быть вместе… Отчаянные! — Она закончила с силой: — Хочу увидеть перед смертью ваше счастье, молодое счастье, Степа! Ни о чем не беспокойся, голубчик мой родной! Все будет хорошо.
Так начался этот день.
Он начался уверенностью, что все основное в жизни решено, что желаемое сбудется, что оно уже сбывается с каждой новой минутой, и все, что видел, все, что слышал Степан, вплеталось в радостное ощущение торжествующей, побеждающей воли. Осталась позади улица, наполненная вместо воды голубым ранним зноем, зашумел вокруг город, шумный, радующийся новому дню… Этот день должен был стать днем больших событий в жизни Степана, и он в мыслях торопил их наступление. Итак, что нужно сделать? Встретиться с Аней, задержать ее в городе, сломать ее нерешительность, заставить переступить порог его дома. Значит, нужно получить весь день в полное свое распоряжение — с утра вытряхнуть из блокнота до последней строчки все, что осталось от вчерашнего дня, освежить уже набранную и задержавшуюся в запасе информацию, убедить Пальмина, что сегодня в городе не случится решительно ничего, заслуживающего внимания «Маяка».
На Пролетарской площади спешащего Степана окликнул Сальский, высунувшийся из окна военкомата:
— Киреев, с утренним приветом! Куда мчитесь?
— Что вы делаете на суше, морской житель?
— То, что должен был сделать кто-то другой. Вчера нашему шефу влетело от Абросимова за то, что «Маяк» проспал однодневный сбор ЧОН. В редакции уже никого не было. Наумов приказал мне дать отчет о сборе и беседу с комбатом Костылевым. — Сальский не без опаски предложил Степану: — Хотите принять участие на паритетных началах? Я возьму себе Костылева, вы — повествование о вчерашних тактических занятиях ЧОН. Материал надо сдать спешно…
— Спаситель! — воскликнул Степан. — Только что я думал, как ускользнуть сегодня от сдачи материала. У меня есть срочные дела.
— Ну что же, придется пострадать в одиночестве, — сразу согласился Сальский. — Ждем ЧОН с минуты на минуту. Батальон заканчивает ночной марш. На площади состоится митинг.
Степан устремился к редакции, весьма довольный этой непредвиденной подмогой. Строчки Сальского придутся как раз к случаю, снимут со Степана почти всю сегодняшнюю нагрузку. Прекрасно! Но в то же время было и неприятно, досадно: куда годится такой зевок юного короля городского репортажа, как его в шутку называла редакционная братия! Ведь читал он пять-шесть дней назад опубликованный в «Маяке» приказ комбата Костылева об «однодневном сборе с выходом за город коммунаров вверенного мне отдельного батальона частей особого назначения (ЧОН)». Прочитал, подумал, что это немаловажное дело, что «Маяк» в дни подготовки к окружной партконференции должен осветить его пошире, и забыл, занятый другими делами. Вероятно, не миновать по этому поводу объяснения с Наумовым.
А ЧОН уже двигался ему навстречу.
В самом конце улицы, в нескольких кварталах от Пролетарской площади, стало шумно и пестро. Каменно, тупо забил барабан, вскрикнули трубы духового оркестра, заалело на солнце знамя. Откуда-то появились стайки крикливых мальчишек, открывались окна, люди выбегали из домов, — на юге любое зрелище собирает толпу мгновенно…
Сначала мимо Степана прошел оркестр, а потом Степан невольно замедлил шаг и вовсе остановился, вглядываясь и лица чоновцев, узнавая людей, с которыми встречался в городских учреждениях и которые так изменились, стали вдруг ближе, дороже. Нет, это были не его знакомцы по репортажу, работники, занятые обычными делами, бумажками и совещаниями. Знакомство с ними началось гораздо раньше… Мимо Степана шли люди, с которыми шагал по улицам родного города и он, когда надо было давать отпор наседавшим махновским бандам, охранять город, очищать его от дезертиров и спекулянтов-мешочников. Мимо Степана шли участники великого похода, совершенного коммунарами от Смольного и Кремля до Тихого океана, Черного моря, горячих песков Средней Азии… Шли люди, как бы проверяющие, не разучились ли ноги шагать по фронтовым дорогам, не разучилась ли рука держать винтовку.