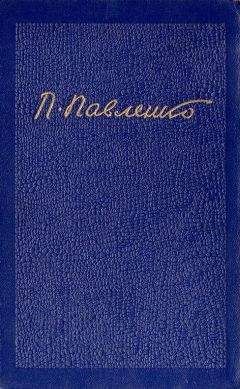Внешне их объединяло немногое — скромное красное знамя с потускневшей позолотой надписи, слабенький оркестр, игравший какой-то маршик, винтовки без штыков за плечами. Только это. Во всем остальном разные, бесконечно разные. Кое-кто в красноармейских шлемах-буденовках, выцветших, приплюснутых, с едва заметными красными звездами, в лихих кубанках, но большинство в вылинявших, выгоревших кепках, давно отслуживших все сроки носки, или простоволосые; кое-кто с шинелями-скатками через плечо, но большинство в пиджаках, ватниках, бушлатах, потертых кожаных куртках, все туго подпоясанные. Разные, бесконечно разные и в то же время оставляющие впечатление единства, однородности, слитности и неделимости. Откуда шло это впечатление? От спокойствия запыленных, потных, черных лиц молодых и пожилых людей, от силы походного шага, неторопливого и в то же время как бы рассчитанного на тысячи километров, от свободы, вольности каждого участника похода и от того, что эта свобода, эта вольность были всеобщими и поэтому сливались в силу единую и непреодолимую, в строй, дышащий одной грудью… Долгим взглядом провожал Степан этих людей, истинных солдат революции, готовых каждую минуту, если понадобится, сменить мирный труд, обеспеченность и безопасность рабочих будней на опасности и тяготы войны, борьбы. Долгим взглядом провожал он этих людей, взволнованный воспоминанием, что и он, еще подростком, юнцом, шагал в таких же рядах, свой среди своих, уверенно положив руку на ремень винтовки, взволнованный сознанием доказанной принадлежности к этой силе, к этим людям.
Забыв о том, что ему нужно спешить в редакцию, Степан переводил взгляд с одного лица на другое, кивал знакомым, улыбался всем.
Мишук! Да, конечно, Мишук! Он шел правофланговым одной из шеренг, в старенькой буденовке, в черном бушлате, зажав в кулаке широкую брезентовую тесьму, заменившую кожаный ремень винтовки. Он едва улыбался, слушая шепоток своего соседа, он смотрел прямо перед собой; между ним и Степаном, стоявшим на краю тротуара, было не больше трех шагов. И он, конечно, видел Степана — видел и как бы не заметил, как бы не слышал его приветствия: «Здорово, Тихомиров!» — прошел дальше и, уже оставив Степана позади, быстро повернул голову и коротким кивком приказал: «За мной!» Именно приказал — таким властным было это движение. И, немного помедлив, Степан покорно двинулся за чоновцами рядом с грохочущей и подпрыгивающей на булыжниках полевой кухней.
Впоследствии Степан отдал себе отчет, что именно так и начался этот день. Острым и всепоглощающим ощущением тревоги начался этот день, и ничем другим. Что означало поведение Мишука?
На Пролетарскую площадь Степан вернулся, когда чоновцы по команде «вольно» уже рассыпали ряды. Люди толпились у бака с водой, вынесенного из военкомата, закуривали, покупали снедь у торговок, переобувались, сидя на обочине тротуара и сбивая пыль с ботинок обмотками. В этом шуме, движении Степан не сразу разыскал Мишука. Он сидел на тротуарном каменном столбике, поставив винтовку между коленями и опершись на нее обеими руками.
— Зачем звал, Мишук? — окликнул Степан.
Тихомиров взглянул на него сбоку, вкось прищуренными глазами, которые казались двумя узкими кусками синевато-серой эмали, вставленной в темную бронзу. Лицо Мишука, неподвижное, серьезное вначале, едва заметно улыбнулось странной, недоброй и какой-то гадливой улыбкой.
— Кто там в «Маяке» о бекильской запруде написал? — спросил он. — Ты написал? Хватило ума!
— Да, я написал… А что?
— А то! — Мишу к медленно встал и в своей буденовке показался очень высоким; его лицо стало злобно-враждебным, когда он, шагнув к Степану, сказал: — А то!.. За дочкой, за буржуйкой своей, ухлестываешь и папаше подмазываешь?.. Ты знаешь, что ты написал? — Мишу к еще шагнул к Степану, чуть не толкнув его грудью. — От твоей заметки батраки кровавой слезой плачут, а кулакам радость, — вот что ты написал!.. За эту заметку тебя из комсомола выбросить надо, кулацкий прихвостень!
— Ты что? — схватил его за руку Степан. — Что ты несешь?
— Уйди! — проговорил Мишук, быстро темнея — так бурно бросилась кровь ему в лицо, руки стиснули винтовку, на скулах вздулись, заиграли желваки. — Не видишь, что у меня в руках винтовка? Шлепну, мразь интеллигентская! — И страшным был его голос, тяжелый и тихий голос ярости, ненависти и презрения.
Все же он сдержал себя, отвернулся, сделал шаг-другой от Степана и уж затем через плечо сказал:
— Косницкого знаешь, Егора? Агронома из Сухого Брода… Ты пойди поговори с ним. Он сегодня в город приехал, на постоялый двор красного трактира… Ты его спроси, что ты сделал своей черной рукой! — И, пробормотав какое-то ругательство, Мишук оставил Степана, ушел, затерялся в толпе чоновцев.
На высоком каменном крыльце военкомата появился Абросимов, комбат Костылев, мелькнул за ними Сальский, уже с блокнотом в руке. Скоро должен был начаться митинг. Степан с трудом оторвал ноги от земли.
…Утро в редакции. Только что вымытые полы еще не совсем просохли, проволочные корзины для черновиков и пепельницы опорожнены, чернильницы наполнены, газеты сложены на столах аккуратными стопками — труд уборщицы, успевшей навести порядок в короткий перерыв между двумя газетными днями.
В редакции, кажется, еще никого… Нет, из кабинета Дробышева слышится чей-то голос. Сквозняк вытягивает и общую комнату литработников голубую нить табачного дыма.
Степан входит в кабинет Дробышева.
Хозяин комнаты, зеленовато-серый, с покрасневшими глазами, как видно не спавший всю ночь, стоит у окна. В кресле для посетителей сидит его жена, Тамара Александровна, и что-то записывает в настольный блокнот Дробышева. Ее тонкое и смуглое лицо озабоченно, яркие глаза смотрят сосредоточенно, когда она припоминает, что еще нужно вписать в блокнот.
— Нет, кажется, все, — сказала она. — Но с доктором поговори прежде всего, хотя я записала этот пункт вторым.
— А если Георгиевский не сможет приехать до обеда? Есть еще детские врачи, кроме него?
— Для Дуси существует только Георгиевский. Она любит этого толстяка и слушается его, ты же знаешь. — Тамара Александровна встала, подняла с пола плетеный базарный кошель. — Когда наконец нам поставят телефон? Я сегодня не вышла бы из дома, если бы не надо было поговорить с тобой… Что тебе приготовить на обед?
— Молодую луну под лазурным соусом…
— Он еще может шутить! — вздохнув, пожаловалась Степану Тамара Александровна. — Слоновьи нервы…
— Она еще может спрашивать меня о стряпне!.. Птичьи мозги, честное слово! — в тон ей ответил Дробышев.
Проводив жену до крыльца, он сел на свой стол, вызвал квартиру Георгиевского, рассказал врачу, что у младшей дочурки начались спазмы, отбросил папиросу, показавшуюся горькой, наконец с улыбкой заметил Степана и вновь потерял его, глядя из окна на бухту.
— Всю ночь работал над полосой о «Красном судостроителе», — проговорил Владимир Иванович. — Кажется, получилось неплохо… Вы знаете, Киреев, есть сведения, что в Москве началось размещение больших заказов на оборудование для Донбасса, для шахт. Вот то, что нужно «Красному судостроителю». Если «Маяк» не поможет заводу получить заказ, нашу редакцию нужно будет разогнать за беззубость… Ночь мелькнула, как единый миг, и жена принесла неприятную новость… С Дуськой очень плохо. Эту крохотку будет нелегко сохранить… А мы с женой надеялись, что в Черноморске она окрепнет… Так-то!
Владимир Иванович сделал несколько глотков прямо из горлышка графина, снова закурил, заставил себя подтянуться и теперь уже заметил Степана по-настоящему.
— Ранняя пташка! Что у вас? — Он взял у Степана и бегло просмотрел рукопись очерков. — Вы устрашающе плодовиты. Сегодня я займусь этим. Хотя нет… Как же быть? — И он потер лоб.
— Пальмин требует, чтобы очерки были сданы в набор сегодня.
— Да-да, они на очереди. Но вы видите, что на меня свалилось…
— Есть и еще одно дело, Владимир Иванович.
— И, судя по вашему сумрачному виду, дело не из приятных, — догадался Дробышев.
— Только что с батальоном ЧОН в город вернулся из похода Мишук Тихомиров. Он заявил мне, что я дал в газете вредный материал. Вот этот… — Степан положил перед Дробышевым номер «Маяка» с заметкой, отчеркнутой красным карандашом.
— О решении комиссии республиканской конторы сельхозбанка по проекту Верхнебекильской плотины? — заинтересованно проговорил Владимир Иванович, перечитывая заметку. — Что случилось, чем вредна заметка?
Он выслушал Степана очень внимательно, снова перечитал заметку и пожал плечами:
— Почему вы так встревожились, даже не зная еще толком, в чем дело, даже не побеседовав с Косницким?.. На первый взгляд ваша паника необоснованна… Ведь в Бекильскую долину ездила авторитетная комиссия, изучала вопрос на месте, вынесла аргументированное решение. Вы все это знаете, так? Никаких сомнений у вас не было, вы приняли решение комиссии как безусловное. И вдруг единичный протест Косницкого выбивает вас из седла. Казалось бы, это только смешно, не больше… А мне вот почему-то не смешно… Понимаете, то обстоятельство, что вы, человек, обслуживавший ирригационную комиссию окрисполкома, хорошо знающий Стрельникова и побывавший в Бекильской долине, так встревожились, придает единичному протесту особое значение. О чем вы думаете, Киреев?