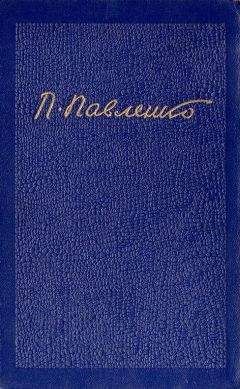— Не беспокойся. В окрисполкоме у меня есть преданная мне канцелярская дева. В Водострое я тоже как-нибудь найду ход.
— И никому, нигде ни слова! Если на тебя будут жать Пальмин и Нурин, говори, что ничего не знаешь. Завтра встретимся вечером и затем повидаемся с Дробышевым. Кажется, все… Давай руку!
— До свидания! — Поэт задержал руку Степана в своей. — Мне хочется задать тебе вопрос: «А Нетта?» Вот я задал его, и, пожалуйста, не вращай глазами. Ты же понимаешь, что это не пустое любопытство.
— Я не хочу связывать ее имя с делами ее отца, она ни при чем… И она знает меня — значит, поймет все.
— Предположим… Но я хочу дать тебе совет… слышишь, Степан?.. Ты угадал, что я хочу сказать, недаром ты опять вскипаешь. Впрочем, мне наплевать… Все равно я скажу то, что хочу сказать, я должен… Так вот, отойди в сторону! Нет, кроме шуток… Я сделаю все, что нужно. Смотаюсь в Бекильскую долину, завтра наведу справки, и вечером все будет в порядке. Молния не угонится за мной, поверь!.. Ты представляешь, что получится, если пронюхает Стрельников? Уж и так Нурин вертится в редакции, шепчется с Пальминым и глотает слюнки. Откажись, Степа! Заболей чем-нибудь серьезным и выйди из игры… Степа, бедный мой старик!
Снова соблазн овладел Степаном, обессилил его. Зачем он лезет в огонь? Он дал неподписанную заметку о результатах поездки комиссии сельхозбанка в Верхний Бекиль, как сделал бы это любой репортер. Правда, он также написал восторженный очерк о плотине Стрельникова, но ведь очерк не появился в печати, не увидел света, прочитан лишь считанными людьми.
Не отнимая руки у Одуванчика, он молчал, опустив голову, но эта минута кончилась, как только припомнился разговор с Мишуком, с Косницким.
— Оставь, Коля! — Он сжал руку поэта. — Если бы не Тихомиров, если бы не Косницкий, то очерк прошел бы в «Маяке», журналист Киреев и Стрельников очутились бы на одной доске — жених и тесть… В бога я не верю, ты знаешь, но слава богу, что этого не случилось. А теперь, когда нужно сказать всю правду о проекте Стрельникова, начать бой за проект Захарова, я, по твоему совету, отойду в сторону, покажу, что я не советский журналист, не комсомолец, а только и опять-таки будущий зять Стрельникова… Да, будущий зять Стрельникова, чуть-чуть не нагадивший газете в угоду своему бо-перу. Кому нужен такой журналист? «Вестнику»?
— Черт!.. — пробормотал поэт. — Но, Степа, как ты мог не ошибиться, подумай! Тебя ввели в заблуждение, и не только тебя, но и республиканский ЦИК, и республиканскую контору сельхозбанка. Почему ты берешь на себя ответственность Васина, Прошина, комиссии сельхозбанка? Не ты автор проекта, не ты устроил пьяную поездку банковцев в Верхний Бекиль. Почему ты хочешь быть святее самого папы?
— Да, обманули, обвели вокруг пальца, и только, — усмехнулся Степан. — Я, видишь ли, не журналист, а нечто вроде безголового автомата, заправленного бумагой, перьями и чернилами. Нажимается кнопка, и автомат строчит статью, очерк на заданную тему и к тому сроку, который выгоден Стрельникову. Как я смел не заметить, что Стрельников, по существу, прячет свой проект, устраивает его через голову общественности?.. Прошу тебя с особым пристрастием заняться вопросом о докладной записке Косницкого на имя Прошина. Косницкий, прослышав о махинациях Стрельникова, о работе комиссии сельхозбанка, этих пьянчуг, продажных шкур, написал записку, привез в Черноморск, сдал Шмыреву. Почему протест Косницкого как сквозь землю провалился? Выясни, кто и как замолчал эту докладную записку. Если Стрельников хоть в ничтожной степени причастен к этому замалчиванию, то, значит, он из-за своей карьеры, из-за своей выгоды совершил преступление… да, прямое преступление!
— Видишь, видишь, как все это сложно! — воскликнул Одуванчик. — Как мог ты разобраться во всей этой бюрократической путанице? Ты только газетный работник, и к тому же начинающий…
— Когда я дал слово… помнишь, что никогда не буду ошибаться, это значило, что я решил стать журналистом, которого невозможно ввести в заблуждение… Я принял пышное обязательство и… не выполнил его. Надо исправлять ошибку, Колька. Прощай!
— И Нетта еще ничего не знает? Ты ничего ей не сказал?
— Что я могу сказать ей сейчас?
— Но надо же как-то предупредить ее.
— Да, надо поговорить… Но это будет не разговор, а бой. И я должен выступить, располагая всеми фактами.
Все же, когда редакционные дела были закончены, он позвонил из кабинета Дробышева. Ему не ответили. Он позвонил еще и еще раз — все без толку. Что это значило? И вдруг в общую комнату литработников вошла старенькая домработница Стрельниковых, тетя Паша.
— От Нетточки, — шепнула она Степану, опасливо обведя взглядом комнату, и передала ему треугольное письмецо-секретку.
Степан повел старушку в кабинет Дробышева.
— Что с Анной Петровной? — спросил он, еще не распечатав секретку.
— Уехала Нетточка, — сказала старушка. — Утречком телеграмма пришла из Симферополя, от тети Елены Васильевны. Куда как расхворалась, помирать собралась… — Она вздохнула. — Не хотела Нетточка ехать, а ирод бородатый и чемодан сам собирал… Так уж шумели, так шумели…
Аня писала ему: «Уезжаю! Приходится ехать, дорогой мой… Снова ссоры с отцом, снова телеграмма от тетки. Тяжелее всего то, что не обниму тебя еще раз на прощание. Что ты со мной сделал, по какому праву ты стал для меня судьбой! Почему я, глупая, не сделала вчера того, что ты хотел, не переехала через бухту? Дура, дура, и только! Напиши мне в Симферополь по этому адресу». И кончалось письмо так: «Я люблю тебя все сильнее, все сильнее… Неужели я умру от любви до того, как увижу тебя вновь?»
Итак, Степан мог уехать в Бекильскую долину, не услышав голоса своей любимой; ему не надо было таиться перед ней. Он поцеловал тетю Пашу и по телефону попрощался с Раисой Павловной.
Постоялый двор, где остановился Егор Архипович Косницкий, был забит арбами, тачанками, бричками и возками. Суматошливый горячий ветер гонял между колесами клочья сена и птичий пух. Со ступиц на пыльную твердую землю медленно падали тяжелые и длинные, жирные капли дегтя. Два вола, неподвижные, как седые камни, лежа посредине двора, лениво перемалывали жвачку и глядели на окружающее сонными фиолетово-дымчатыми глазами.
Заведующая постоялым двором, большая и подвижная Женщина на толстых ногах, в татарской шапочке лилового бархата с серебром, с квитанционной книжкой в руках и карандашом за ухом, провела Степана в дальний конец двора к тарантасу, возле которого копошился Косницкий. Агроном укладывал в ящик под сиденьем пакеты из магазинов, перевязанные разноцветным мочальным шпагатом, и покрикивал на еще не запряженного золотистого конька: «Бунька, не дури!» Эта подробность, то, что Косницкий после недавнего разговора со Степаном ходил по магазинам, покупая ситец и сахар, как-то затронула сердце Степана. Ему стал непонятен этот высокий, худощавый человек в поношенном костюме и вышитой украинской рубашке под лоснящимся пиджаком.
Увидев Степана, агроном улыбнулся. Простодушная улыбка скрашивала и молодила небольшое круглое лицо с острыми скулами.
— Вот и хорошо, Степан Федорович, сейчас поедем, — сказал он. — По городу набегался. В городе бываю редко, так что не оберешься жениных поручений… Надо только закусить на дорогу. В красном трактире хорошие чебуреки. Составьте компанию…
— Я только что завтракал… Подожду вас здесь, под навесом.
Косницкий опасливо оглянулся, сказал вполголоса:
— Здесь есть несколько хозяев из Верхнего Бекиля. Если увидят вас возле моей колесницы и заговорят, скажите, что едете в Сухой Брод по поводу нового сорта дынь… Не говорите, что вы из газеты.
«Конспирация!» — подумал Степан, скрыв усмешку.
Спустя десять минут Егор Архипович вернулся из трактира, торопливо вытирая ладонью рот и усы, завел в оглобли Буньку, как-то очень быстро и споро управился с упряжью, вынул из тарантаса два брезентовых пылевика и сильными ударами о стойку навеса выколотил из них пыль.
— Что предпочитаете: сжариться на солнце и пропылиться до костей или свариться в пылевике, но уберечься от пыли? — спросил он.
— Выбираю второе.
— Правильно… Если станет невтерпеж, снимете.
Заведующая постоялым двором вышла проводить Косницкого и пожелала ему счастливо доехать. Он ответил шуткой и пообещал в следующий раз привезти на пробу дыни нового сорта, выведенного в Сухом Броде. Конек со странным именем «Бунька» тронул, из-под его ног лениво разлетелись ожиревшие голуби, выклевывавшие овес из пыли. Волы, продолжая перемалывать жвачку медлительными челюстями, проводили тарантас сонным взглядом.
Дорога уже была немного знакома Степану по прошлогодней поездке в Сухой Брод. По каменистым косогорам рассыпались домишки Цыганской слободки, затем потянулись стены скотобойни, а дальше стала развертываться дорога, названная трактом неизвестно почему. Она петляла между серыми и красноватыми морщинистыми камнями, прорвавшими иссохшую землю, пересекала заросли жесткого пыльного кустарника, змеилась по степи, заросшей давно умершей травой, и огибала глубокие балки, где не было видно ни одного деревца.