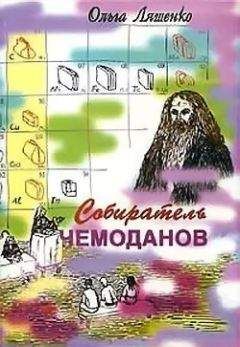— С добрым утром, изобретатель, — кивнул Горн. — Не спится? Какая из трех причин мешает?
— Из каких трех? — не понял Алексей.
— Существуют три причины бессонницы, зарегистрированные наукой, — ответил Александр Иванович, вытирая руки о тряпку и бросив короткое: «Можете включать!»— Три причины, я говорю: творчество, любовь и блохи. Причем последнее — самое безобидное.
— Вы все шутите, Александр Иванович, — покачал головой Алексей. — Спать ночью не дали, а вам и горя мало.
— Запомните, юноша! — для чего-то запихивая тряпку в карман, торжественно проговорил главный механик. Он остановился и взял Алексея за пуговицу ватника. — Запомните, только три вида живых существ на нашей планете живут дольше остальных: слон, ворон и человек, наделенный чувством юмора! Да, да! Рекомендую этот витамин всем. А теперь прошу растолковать причину ночной прогулки и вашего жеваного вида, ну-с!
Горн отпустил пуговицу и, взяв Алексея под руку, повел по цеху.
— Да так, Александр Иванович, — ответил Алексей, — признаться, просто девать себя некуда. Большущее дело сделано, как будто полегчать должно, а я прочитал сегодня на папке: «Автор проекта Соловьев А. И.» и такое чувство стало, будто я притворялся, что тянул; знаете, как лентяй несет бревно «втроем». Идет он между двух работяг, на чьи плечи оно взвалено, и пыжится — вот, мол, я какой! А сам едва плечом касается. Вот и я тоже… «Соловьев А. И.»!
— Это вы, собственно, о чем же? — насторожился Горн.
— Да о том, что автор проекта я, а проект делал дядя! Вы только правильно поймите, я товарищам вот как благодарен! Кабы не вы, все прокисло бы у меня. Ну и вот теперь сам вроде пустышки, на полдела башки не хватило. Смотрю в чертежи, а в иных такой страшенный туман, что хоть кричи, право! Вернее, там-то ясно, а здесь туман. — Он постучал себя ладошкой по лбу.
— Ах вот, оказывается, что! «Оделась туманами Сиерра Невада!» — воскликнул Горн. — Ну, позвольте мне, юноша, с вами не согласиться кое в чем, да, да! Радоваться надо, а не нос вешать! Мамаша — вы! Младенец явился на свет! А мы, все остальные, — бригада акушерок… — Горн похлопал Алексея по плечу. — Ну, а насчет туманцу я вам раньше говорил, разгонять нужно. Заряжайте голову этакими дальнобойными, всё иначе пойдет. А пока — грудь колесом, голову выше! Эх, Алексей Иванович, работищи-то нам с вами с этой линией сколько предстоит. Вот, когда руками за дело возьметесь, будьте спокойны, все в голове прояснится.
После разговора с Горном чуть-чуть полегчало. Алексей вернулся домой. Остановился возле палисадника. В Танином окне все еще горел свет, только теперь были задернуты занавески. Когда он поднялся на крыльцо, свет погас. Алексей вошел в дом, зажег свет и снова развернул папку с чертежами. «Завтра во вторую смену, — подумал он, — успею еще выспаться».
5
Сергей Сысоев пришел к Ярцеву злой и взволнованный.
— Не могу больше, Мирон Кондратьевич! Всё!
Он тяжело сел на черный клеенчатый диван, снял свою ушанку и, положив ее рядом с собой, устало откинулся на высокую диванную спинку. Руки его беспомощно легли рядом.
— Что случилось, Сергей Ильич? Расскажи толком, — попросил парторг.
— Выполнял я партийное поручение честно, крепился, терпел, а теперь, вижу, хватит! Нет больше никакого терпежу!
— Ну конкретно-то, в чем дело?
— В том, что никаких сил больше нет, конец пришел!
Сысоев поднялся, подошел к столу и, налив себе воды из графина, залпом выпил целый стакан. Потом утер губы и сел на прежнее место.
— Коммунисту истерика не к лицу, Сергей Ильич, — спокойно сказал Ярцев. — Давай отдышись и выкладывай, с чем пришел.
Несколько минут Сысоев сидел молча, собирался с мыслями, потом рассказал, наконец, о том, что привело его в возбужденное состояние.
Еще прежде он не раз просил перевести его со склада на родную столярную работу, по которой так соскучились руки. Но на том собрании, на котором было решено вводить рабочий контроль и дальнейшие обязанности Сергея Сысоева определились, как очень важные, он ничего не сказал и остался работать. Он и теперь продолжал бы работу, если бы не почувствовал, что не может справиться физически. Со сменами Озерцовой и Любченко все было благополучно. Они были очень аккуратны. Но когда дело доходило до Шпульникова…
Тут, собственно, и начиналась главная беда Сысоева. Без недоразумений, иной раз принимавших размеры скандала, почти никогда не обходилось, особенно, если за Шпульникова вступался Костылев. Постоянное заступничество начальника цеха привело к тому, что Шпульников совсем распоясался. Правда, Сысоев еще ни разу не уступил, но постоянные скандалы в конец измотали его, тем более что большинство рабочих смены Шпульникова считало, что все их горести и низкие заработки являются плодом какой-то необъяснимой неприязни Сысоева к их мастеру.
Чаша терпения переполнилась сегодня. Утром, придя на работу, Сысоев обнаружил возле дверей склада партию тех самых деталей, которые только вчера бесповоротно забраковал. Они лежали аккуратными стопками и, по всему видно, были приготовлены к сдаче. Приглядевшись, он обнаружил, что его карандашные пометки, сделанные вчера, просто-напросто счищены. Только их и не было, дефекты же — его наметанный глаз ошибиться не мог — остались. Попав в тупик, Шпульников пытался подсунуть вчерашний брак.
Шпульников работал во второй смене и на фабрике его не было, поэтому Сысоев пригласил Костылева и предупредил, что ни одной детали принимать не будет до тех пор, пока не появится сам мастер. Костылев не принял это всерьез, но детали понадобились сборщикам. Назревал простой… Костылев забеспокоился. Он сам пересмотрел всё, приготовленное к сдаче, и убедился, что бессилен «помочь» Шпульникову. Пришлось вызвать его из дому. Он пришел в воинственном настроении, снова рассчитывая на костылевокую помощь, и набросился с бранью на Сысоева, обзывая его придирой, склочником, подлипалой… Он перебирал детали и, поднося их к самому лицу Сысоева, шумел:
— Ну что в ней брак, ну что? От других хуже принимаешь, а мои из принципа в сторону, да? Тебе Любченко пол-литровки на квартиру таскает, думаешь, не знаю, да? Вот… Тебе и от Шпульникова того же требуется, да? Не дождешься! Вот… Не на того нарвался! — Шпульников сыпал оскорблениями и оглядывался по сторонам, отыскивая Костылева. Но тот предусмотрительно исчез по каким-то обычным «неотложным делам».
Сысоев сперва молчал, дал Шпульникову выговориться. Когда тот выдохся, веско сказал, сдерживая гнев:
— Забирай брак и девай куда хочешь, не запугаешь. Подмоги не жди, смотался твой начальник цеха, видишь, не идет выручать. А за оскорбления ответишь, понял?
Но Шпульников не понял. Он снова набросился на Сысоева и в конце концов вывел его из себя.
— Убирайся отсюда! — повысил голос Сысоев. — Можешь жаловаться!
— Буду жаловаться! В газету напишу! В райком партии поеду, расскажу, какой ты есть коммунист, продажная душа!
— Какой я есть коммунист, это мне перед партией моей отвечать, а не перед тобой! — стараясь сохранить внешнее спокойствие, едва сдерживая разгуливающиеся, издерганные в давних боях нервы, сказал Сысоев…
— Вот хоть верьте, хоть нет, Мирон Кондратьевич, — закончил он свой рассказ, — еще бы минута, и ударил бы я его! Не знаю, как удержался только. Вот и всё. Дайте нервы в порядок привести, помогите, пускай к батьке на «художественный» переведут. Истосковался я по столярству. Не мое это дело «блох» на складе ловить, не гожусь. Терпежу больше нет!
— Значит, все дело в том, что у коммуниста Сысоева «не стало терпежу»? — подвел итог Ярцев. — Что же сильнее-то: желание окончательной победы или «терпеж»? Выходит, им всё большущее наше партийное дело исчерпано. Так, что ли? — Ярцев сцепил пальцы рук и положил на них подбородок, опершись о стол локтями. Он не сводил с лица Сысоева спокойных, товарищески упрекающих глаз.
— Зачем так, Мирон Кондратьевич? — несколько растерянно проговорил Сысоев. — Я ж просто замены прошу. Дело ж не пострадает, нет ведь незаменимых-то.
— Конечно, нет. Есть просящие замену.
— Ну невмоготу раз! Мирон Кондратьевич, вы поймите! Есть кроме меня-то…
— Ты солдат? — вместо ответа спросил Ярцев.
— На Карельском сражался.
— Из-под огня бегал?
— Меня под огнем в партию принимали, — медленно и раздельно проговорил Сысоев глухим голосом.
Ну вот, видишь? А здесь, выходит, пускай другие коммунисты «под огнем», а Сысоеву работку полегче?
Сергей Ильич понуро молчал, покручивая пальцами тесемки лежавшей рядом ушанки.
— Вот объясни-ка ты мне, Сергей Ильич, — с какой-то мягкой задушевностью в голосе проговорил Ярцев, — неужели в мирные дни душа человеческая перерождается, а? Похоже это на людей ленинской закалки, как скажешь? Там — огонь, смерть — умирать стоя собирался, а здесь? От плевков побежал в кусты отлеживаться?