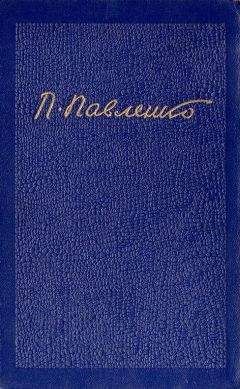Они обошли сад снова в том молчании, когда подготавливается важный разговор. Понемногу успокаиваясь, Наумов чуть слышно посвистывал сквозь зубы без мелодии, глядя перед собой прищуренными глазами.
— За материал спасибо! — проговорил он. — Если бы накануне открытия партконференции появился очерк о Верхнебекильской плотине, а потом начались бы разоблачения — конечно, они начались бы! — то, вероятно, вы не смогли бы остаться в «Маяке». Сами понимаете почему… Если бы вы просто уклонились от прямого разговора в печати о стрельниковском проекте, если бы вы спрятались в кусты… вы поставили бы себя рядом с Нуриным. Это было бы тяжело вашим товарищам, которые… — Он призадумался и затем кончил фразу: —…которые верят, что из вас выйдет журналист-боец. Большевик проверяется главным образом через его отношение к своим ошибкам, слабостям… Да, проверяется и закаляется, растет… И понятно! Не научишься правильно, мужественно относиться к своим ошибкам, значит, не надейся на победы в труде, в борьбе. Не будет их! Понимаете?
Степан наклонил голову.
— Знаю, что для вас лично эта история очень тяжелая, — сказал Наумов. Задумался и продолжал почти сердито: — И не хочу касаться этого, не хочу поддаваться обывательскому ажиотажу, который подняли вокруг вас и дочери Стрельникова Нурин, Пальмин и даже Владимир Иванович, хотя он-то не обыватель, а просто добряк… Самое важное то, что вы нашли правильный путь в истории с Бекильской плотиной, нашли то, что нужно партии. Найдете правильный путь и в вашем личном деле. Так?
— Во всяком случае… — начал Степан.
В эту минуту он внутренне увидел Аню читающей его письмо, — а она должна была вскоре получить это письмо, отправленное спешной почтой с утренним поездом. Что сделает Аня, как примет этот удар по ее отцу? Поймет ли она Степана или придет в ярость?
Степан закончил:
— Я надеюсь… Но надежда очень слаба.
— Да?.. Плохо… — Теперь Наумов стоял лицом к Степану, его глаза, большие за сильными стеклами очков, смотрели задумчиво. — Что же сказать вам на прощание, Киреев? Что может сказать комсомольцу Кирееву коммунист Наумов? — Его взгляд отвердел, стал пристальным, настойчивым. — Слушайте и поверьте мне… Я немало видел, немало перенес и передумал… И у меня сейчас есть для вас лишь одно утешение. Оно может показаться вам жестоким, бессердечным, но постарайтесь понять его и принять… Вы сохранили свое право открыто смотреть в глаза вашим соратникам, сохранили их уважение, их доверие — значит, вы сохранили себя для достойного будущего. Поверьте, многое способен забыть человек, многое могут простить люди, лишь одно не забывается никогда — предательство, отступничество, капитуляция бойца, если есть еще хоть малейшая возможность продолжать борьбу. Предателю нет прощения ни от людей, ни от самого себя, и это на всю жизнь… Я просидел около двух лет в екатеринбургском тюремном замке. Рядом с моей одиночкой, в соседней одиночке, сидел мой товарищ по организации. Мы перестукивались, читали друг другу лекции. Он мне — по политической экономии, я ему — по истории, по «Капиталу» Маркса… Вдруг он не ответил на мой вызов, исчез из камеры. Заболел? Нет, товарищи сообщили мне, что этот человек подал прошение на высочайшее… Он просил прощения у Николая, у главного жандарма, коронованного охранника! «Припадая к стопам вашего императорского величества…» Униженно, по-рабски, как раздавленный червяк. Не вынес одиночества, разлуки с женщиной, пожалел себя и капитулировал, припал к стопам. Царь охотно удовлетворял такие ходатайства. Он знал, что предателю нет возврата к революционному делу, нет места среди революционеров… Я вычеркнул имя этого человека из памяти, забыл о нем и вдруг столкнулся с ним на улице маленького уральского городка, где он живет, служит в кооперации и ждет мести, возмездия… Он узнал меня, испугался, отшатнулся к стене, а я прошел мимо, не взглянув на него. Чего он испугался? Никто не собирался ему мстить, наказывать. Он наказан навсегда и без какой-либо надежды на амнистию. Вечное презрение! Любое несчастье в жизни человека не может сравниться с несчастьем вечного падения, вечного позора… — Наумов оторвал свой загоревшийся взгляд от Степана, быстро зашагал по дорожке и остановился лишь у калитки, выходящей во двор здания окружкома. — Прощайте, Киреев! После конференции приходите ко мне домой. Я мог бы рассказать немало интересного о тюрьме, о подполье, о фронтах… Желаю вам всего хорошего!
— Спасибо, Борис Ефимович!
— Послезавтра начинается конференция. Передайте Пальмину, что я разрешил вам два свободных дня за поездку в Бекильскую долину. Отдохните.
— Нет, как раз сейчас надо работать побольше.
— Что ж, пожалуй, вы правы.
Не позволив себе ни минуты отдыха и ни одной мысли о случившемся, Степан, не заходя в редакцию, взялся за работу, занялся своими делами — газетными делами: отдал несколько часов обходу своих учреждений. В редакцию он пришел одновременно с окружкомовской рассыльной, принесшей запечатанный пакет под расписку.
— Ага, твоя статья, Киреев! — сказал Пальмин, расписавшись в разносной книге. — Заголовок оставлен твой, но рукой Наумова вписан подзаголовок: «Политическое недомыслие горе-строителей из Водостроя». — Он стал читать статью, то и дело присвистывая и гмыкая. — Ничего себе матерьяльчик к открытию партконференции! По-моему, это уже та степень критичности, когда критика обращается во вред, честное слово!
— Дипломатия… — усмехнулся Степан. — А я считаю, что лишь одна степень критичности никуда не годится: если смазывается вопрос, ослабляется удар по мерзавцам, бюрократам и дуракам.
— Ну что же, можешь радоваться: ударил ты действительно крепко… И по Стрельникову тоже… Кто мог предполагать… — пробормотал Пальмин, уже считая строчки в статье, и, не дождавшись отклика Степана, позвонил в наборный цех: — Нурин, получена статья Киреева. Будет еще строк пятьдесят дополнения. Они пройдут как примечание редакции… Наумов требует, чтобы все было подано глазасто. Подбери шрифты для заголовка и подзаголовка, я приду посмотреть. — Он положил трубку. — Слушай, Киреев… скажи, пожалуйста, как могло случиться, что…
На языке у него вертелось множество вопросов, но Степан не стал их ждать, молча ушел в кабинет Дробышева и сел оформлять материал в текущий номер и в запас. Затем он отправился в новый рейс по городу, заглянул в редакцию лишь вечером, позвонил Нурину и попросил прислать гранки набора статьи о плотине.
— Подожди немного, — ответил Нурин.
В редакции было тихо, пусто. Сумерки уже завладели углами комнаты литературных работников. Три венецианских окна стали золотыми щитами с расплывающимися крестовинами. Письменные столы и кресла казались огромными. Мыши возились в проволочных корзинах, шурша бумагой…
Сколько же времени прошло с тех пор, как репортер Киреев впервые открыл дверь редакции «Маяка»? Столетие или еще больше? Мгновение или еще меньше? И в это мгновение легло так много, почти вся жизнь, вся жизнь!.. Вдруг ему представилось лицо Ани впервые за последние дни по-настоящему ясно. Он стиснул зубы, сжал кулаки. Рохля, размазня! Если бы он был хоть немного настойчивее, решительнее, она уже стала бы его женой, и она хотела, ждала от него решительности. «Рохля, размазня!» — повторил он, готовый разбить голову о стену.
Послышались торопливые шаркающие шаги.
— Киреев, ты здесь? — окликнул Нурин. — Почему сидишь в темноте?.. Так и оставить?
Не зажигая огня, Нурин опустился в кресло напротив Степана и вздохнул с облегчением.
— Ну, денек! — пожаловался он. — Шесть полос в номере, и каждую пришлось переверстывать два-три раза. Наконец утрясли вторую полосу с твоей монументальной статьей. Я принес гранки. Наумов только что прислал дополнение. Полсотни строчек, написанных серной кислотой и ляписом.
— Что там?
— Сплошная политика… История со стрельниковским проектом, протащенным келейно, поднимается на принципиальную высоту, как принято теперь выражаться, а затем все сестры получают по серьгам — Басин, Курилов и даже Прошин. Скандал в благородном семействе. Это твой бенефис. Из какого дерева ты сделаешь рамку, в которую будет вставлена эта статья, как фамильная реликвия? — После некоторого молчания он сказал: — Кстати, по старой памяти мне недавно позвонил Стрельников. Он просил меня при случае передать тебе, что будет весь вечер дома ждать твоего звонка. Ночным поездом он уезжает в Симферополь.
— Пускай едет… — Не позволяя усмешке изменить его голос, Степан предположил: — Вероятно, Стрельников кое-что пронюхал.
— Возвращаю твоему замечанию ту редакцию, которую ты великодушно смягчил. Вот она: «Конечно, это ты, старый, неисправимый негодяй, предупредил Стрельникова о готовящемся сюрпризе». Разочаруйся! Петр Васильевич сказал мне, что недавно ему позвонила из Симферополя Нетта и передала содержание твоего письма.