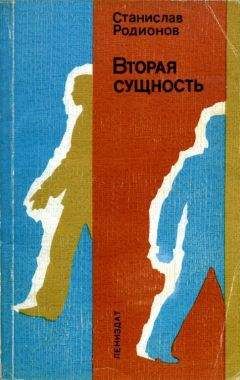— В милиции сказали, что дадут ход делу, если будет найден этот лось.
— Зачем? — рассеянно повторил я, имея в виду уже не милицию.
Кажется, моего второго «Зачем?» Агнесса не поняла, лишь глянула своими большущими глазами, отчего я неожиданно стушевался, будто ляпнул пошлость.
— Он скоро придет. А пока я угощу вас яблочной шарлоткой да козьим молоком.
Я, съевший час назад кастрюлю рисового супа и черствый батон, живехонько уселся к столу с деревянной узорчатой скатертью. Шарлотка оказалась душистой и сладкой, как горячий ананас. Козье же молоко я пил впервые. Видимо, едой я так увлекся, что когда поднял голову, то увидел ее откровенно смеющиеся глаза.
— Ешьте-ешьте, в городе такого не поедите.
— А вас туда не тянет?
— Мы так сжились с природой, что про город и забыли.
— Ну а к книгам?
Она встала легко, словно подхваченная ветром. И, хитренько прищурившись, поманила в комнату — в спальню, которую Пчелинцев мне тогда не показал. Я проглотил неразжеванный кусок и пошел за ней почему-то на цыпочках. Агнесса распахнула дверь…
Посреди большой комнаты стояла кровать, если только ее можно назвать кроватью, — широкое и высокое сооружение, походившее на царское ложе. Конечно, сделанное из сосны руками Пчелинцева. И два светильника, и два столика. И все.
А стены от пола до потолка были уставлены полками с книгами, окно, сдавленное ими, казалось каким-то ущельем, и пахло не деревом и травами, а лежалой бумагой — книгами пахло, запахом, пропитавшим меня с детства.
— Какие? — почти шепотом спросил я.
— Художественные и природоведческие. Идемте, шарлотка остынет.
Мы вернулись к столу. Шарлотка не остыла; по-моему, она бы и при нуле градусов таяла во рту, как ананасовый крем, если, конечно, такой существует.
— Значит, книги с вами. Ну а на работу, в библиотеку, не тянет?
— Здесь я делаю больше, чем в любой библиотеке.
— Неужели вам, человеку с высшим образованием, не хочется применить свои знания, руководить, занять какую-то должность, защитить диссертацию?
— Для чего?
— Хотя бы для полноты счастья.
Агнесса улыбнулась какой-то вымученной улыбкой — так бывает, когда улыбнуться нужно, а не хочется. Подобная улыбка не шла ей, как, скажем, не пошло бы кокетство. Впрочем, алую кофточку она надела не без кокетливого умысла — красный цвет странным образом делал темные глаза прямо-таки жгучими.
— Антон, у вас должности, степени, диссертации… Вы счастливы?
— Само собой, — привычно начал я, но черный свет ее глаз остановил: наверняка Пчелинцев про историю с монографией рассказал.
— Володя про вашу беду поведал, — спасла она меня от замешательства.
— Он ее бедой не счел.
— Разумеется.
— И вы не считаете?
— Считаю, только не эту, а другую, несомненную.
— Несомненную?
Она рассмеялась и махнула ножом: мол, ерунда. Но я вернул на тарелку поднесенный было ко рту четвертый кусок шарлотки. И тогда ее расслабленные губы окрепли, а лицо как-то насупилось, будто я спрашивал невесть что.
— Какую несомненную? — потребовал я, уж коли она проговорилась.
— Ту самую, к которой вас привела погоня за степенями и должностями.
— Какая, к дьяволу, погоня? Таков мой образ жизни.
— О боже…
— Что за беда несомненная? — стал я раздражаться, оставив ее убийственное «О боже».
— Беда, Антон, в том, что у вас нет друзей.
Я улыбнулся. В тишине сухо треснуло сосновое бревно. В огороде закуковала Оля и загавкал Коля. Стакан с недопитым козьим молоком, очень, между прочим, полезным, замер в моей руке, и его микронную дрожь замечал только я.
— Ваша беда, Антон, не в проваленной диссертации, а в том, что вы оказались никому не нужным.
Стакан я поставил — сейчас козье молоко пойдет не впрок.
Да откуда она это взяла? Кто ей позволил обо мне судить? В конце концов, кто она такая? Бывшая библиотекарша, ныне жена лесника-сторожа. Будь на ее месте ее муженек, я бы ответил. Будь на ее месте мужчина…
— Обиделись?
— Отнюдь.
— Я бы не сказала так откровенно, да уж больно вы были спесивы.
— У меня навалом друзей и приятелей, мадам!
И я пошел называть. Лучшего друга Генку Глебова. Второго лучшего друга Мишку Отрубятникова. Двух коллег с кафедры. Трех одноклассников. Четырех однокурсников. Наконец, профессора Смородина. Плюс жена с дочкой.
Агнесса уперлась локтями в стол, положила подбородок на ладони и смотрела на меня, как мать на сына-врунишку. А я все убеждал, все нанизывал друзей на нить своей логики, пока она не спросила остужающе:
— Антон, почему же они к вам не едут?
— Кто? — растерялся я, хотя спрошено было просто и вроде бы о простом.
— Друзья, жена…
— Странная вы, Агнесса. Все же работают.
Она усмехнулась и, показывая, что приняла мое разъяснение, снисходительно закрыла глаза на долгие секунды.
— А у Володи друзей, конечно, пруд пруди? — по-мальчишески ершисто спросил я, уж по крайней мере не по-доцентски.
— Много, — серьезно подтвердила она.
— Откуда же?
— О-о, школьные, по армии, по заводу, в лесхозе, тут…
— И когда вы заболели и поехали сюда, то они, конечно, всё бросили и ринулись за вами?
— Ага. Разве бы Володе одному такой дом осилить?..
— Я видел только его врагов, — вырвалось у меня уже в запале.
— У него и врагов много. Думаю, у вас их нет.
— Представьте, мадам, тоже имеются.
Я соврал. Враг у меня был один, тот, который подсек меня с монографией.
— Налить еще молочка?
— Спасибо, я пошел. Володи не дождаться. Да и смеркается.
Меня учили коллеги, подсказывали друзья, наставлял профессор Смородин… В конце концов, беспрерывно поучала жена. Все они были людьми науки, современными, интеллектуальными. Я ничего не имел против матушки-природы, мне нравились Пчелинцевы, но впадать в дикарство претило. Сосняки… Эти пасторальные супруги полагали, что достаточно побродить несколько лет меж сосен, как на человека ниспадает мудрость. От древесины. И тогда учи уму-разуму других.
На крыльце Агнесса таким же движением руки, как и Оля, застегнула мне на груди пуговицу:
— Антон, дружба всегда бескорыстна.
К чему сказала? Бессмыслица.
9
К Пчелинцевым мне больше не хотелось — следующий день бродил я в ближайших сосняках, где все зримее проступала осень: стало просторнее, будто из них что-то вынесли; вдруг оказалось много папоротников, рыжевших на каждом шагу; вместе с грибами пропали и грибники; воздух похолодал и потяжелел от близких дождей. Такой лес хорош для раздумий — кажется, что и мыслям просторно.
Дурак, то есть недалекий и недообразованный человек, обожает готовые истины. Слышанные или вычитанные. И эти чужие мысли липнут к нему с такой проникающей силой, что становятся будто собственные, прямо-таки им рожденные. Дурак, то есть недалекий и недообразованный человек, об относительности истины не подозревает — она для него абсолютна, универсальна и окончательна. Как штампованная монета. Скажем, если человек живет один, то он наверняка одинок. Если к нему не едут друзья, то они не друзья. Если жена не бросила работу и не понеслась за мужем, то она не жена. Если у человека нет друзей, то не может быть и врагов, потому что равнодушный не вызывает ни любви, ни ненависти… И так далее. Афоризмы для дневника школьницы.
Я ценю не столько верную мысль, сколько самостоятельную. Про одиночество можно отыскать сотню мудрейших цитат в каком-нибудь сборнике афоризмов. Но всегда нужна своя мысль, сто первая. Недавно думал я на крыльце… Почему человек бывает одинок, почему бывает трудно пробиться к себе подобному? Потому что общаемся мы на уровне интеллекта, а души жаждут иного общения, может быть подкоркового; потому что заслонены мы друг от друга характерами, возрастом, психологической индивидуальностью, воспитанием, в конце концов, несовпадением настроения… Знает ли об этом Агнесса? Думала ли?
Видимо, думала, коли попрощалась фразой «Антон, дружба всегда бескорыстна». Да, я предпочитаю мысли самостоятельные, но понятные. Практическая деятельность людей стремит нашу цивилизацию. Человек ничего не делает без пользы, понимаемой весьма широко. Даже в дружбе он ищет пользу. Интересно, какую?
Допустим, взаимный интерес, Это не польза, да на одном интересе дружба и не устоит. Духовное родство… Где оно и у кого? Материальная выгода? Тогда не дружба.
Я удивился: не давался мне собственный тезис. Но если в дружбе, если от дружбы нет никакой пользы, то зачем она? Даже любовь, возвышенная и невыразимая, в конечном счете держалась на реальном интересе — на сексе. А эта чертова дружба…
На ней я застрял, а сосны мне не ответили. Я вернулся из леса, как и Пчелинцев, не с пустыми руками — нес карман шишек, сосновую палку и свой безответный вопрос. И не решал его ни за варкой супа, ни в полубессонную ночь. Зачем, когда для этого есть просторные сосняки.