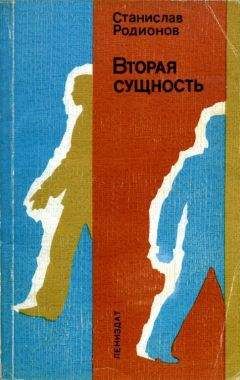Я поплелся за ним.
— Ведь что такое брошенная в лесу бутылка? Мало того, что она пролежит черт-те сколько лет, так в нее землеройка лезет. А обратно ей никак: стены скользкие, задом она ходить не умеет. Попадались бутылки, полные дохлых землероек. Как-нибудь разозлюсь, шишки-едришки, и пошлю такую бутылку в Академию наук.
Пчелинцев, как и его жена, подтачивал мое материалистическое понимание целей людской деятельности. Разумеется, общественные нагрузки, гражданский долг… Но Пчелинцев вроде бы состоял еще на одной работе, добровольной, бесплатной и малоэффективной.
— Антон, знаешь, кого моя душа в упор не терпит?
— Научных работников, — усмехнулся я.
— Пришельцев.
— А-а, — вспомнил я устроенную им проверочку при знакомстве. — Теперь таких пришельцев большинство.
— Из города никуда не выезжают, кроме юга, санаториев да всяких кемпингов. Природы не видят. Не знают, что, к примеру, сосна похожа на человека. Им неохота прижаться головой к ее коре. Не чувствуют свое родство с травкой…
Мы подошли к первому дому. Откуда-то из-под куста появилась старушка, будто выехала на граблях.
— Володя, ко мне?
— Все трудишься, Леонтьевна?
— А что делать, никто работать не хочет.
— Главное, ты питайся витаминной пищей.
— Одни яблоки да чай.
— Консервы не употребляешь?
— Стоит в холодильнике банка зеленого горошка…
— Правильно живешь, Леонтьевна, поближе к природе. Не надрывайся. Когда что тяжелое, то зови.
Мы двинулись ко второму домику. Я шел с неохотой, не понимая своей роли и не принимая цели этого сыска. Проще было уведомить о факте председателя садоводства. Пчелинцев вроде бы жил сердцем, подчиняясь ему, как юная девица, или, говоря современным языком, жил методом проб и ошибок. Это в век-то рациональности и разума. Впрочем, мой легконогий уезд в сосняки тоже был порывом души, то есть шаг, сделанный методом проб и ошибок.
— Городских пришельцев за что не люблю? Дай им волю — они зальют все луга асфальтом, на сведенных лесах понастроят домов и гаражей, опутают все проводами и трубами, соорудят универсамы и проспекты, удушат выхлопными газами… А сами будут пялиться на телевизоры, шишки-едришки!
Я хотел возразить, но мы прошли калитку и стали у маленького, почти игрушечного, крылечка. Пчелинцев стукнул в окно. Из домика вышел пожилой мужчина в очках, в тюбетейке и халате, с махровым полотенцем на плече, будто он только что принял ванну в городской квартире.
— Михал Михалыч, у вас не найдется взаимообразно моравской колбаски?
— Есть докторская.
— Не годится.
— А что за моравская колбаска?
— Фиг ее знает.
— Из лечо, — шепнул я.
— Из лечи, — громко перевел Володя.
— От каких болезней? — заинтересовался Михал Михалыч.
— Что «от каких болезней»?
— Вы сказали излечивает… от чего?
— Да не излечивает, а из лечи.
— Из лечо, — шепотом поправил я.
— Из лечо, — внушительно и с каким-то акцентом произнес Володя.
— Ага, колбаса Излечо, — тоже на иностранный манер важно сказал Михал Михалыч, и его глаза стали круглыми и крупными, как тюбетейка на голове. — Надо запомнить. Для диабетиков?
— Спасибо, — заторопился Пчелинцев.
— У меня есть настойка женьшеня, — услышали мы уже за калиткой.
Я начал злиться. Ходим вроде ряженых. Ради чего? Легковой автомобиль за тысячу километров пробега сжирает столько кислорода, сколько хватило бы человеку на год. А тут полиэтиленовые мешочки с мусором… Пустяк. В конце концов, есть экологи, пусть они и занимаются. Пчелинцев смахивает на дикаря — молится на солнце да на сосны. И я туда же, кандидат юридических наук, милиционером заделался.
Мои ноги точно вросли в землю. Я остановился.
— А тебе надо походить, надо, — почти отечески посоветовал Володя.
— Почему же?
— Чтобы выветрить хандру.
И я пошел, чтобы ее выветрить.
На третьем участке работала женщина — далеко, где-то за кустами и грядками. Поэтому Пчелинцев крикнул через забор на все садоводство:
— Изольда Марковна, в магазин сегодня хаживали?
— Нет, а что?
— Говорят, завезли диковинные консервы, моравская колбаса в перце.
Слово «лечо» употребить он не решился.
— Спасибо, завтра сбегаю.
— Боюсь, что уже расхватали, — остудил Пчелинцев ее желание.
В четвертом доме никого не оказалось — уже неделю пустовал. Мы пошли к последнему ряду, к пятому. Правда, я не понимал, что могло помешать принести эти мешочки с любого конца садоводства. Или он намеревался обойти все дома?
— Городских пришельцев не люблю за что? Их не интересует, откуда берется хлеб с мясом, древесина с железом, вода с воздухом… Им вынь да положь. Живут как херувимы…
Он хотел развить мысль о городских херувимах, но мы уперлись в запертую калитку пятого дома. Мальчишка класса второго-третьего открыл ее живенько, скорее, не нам, а Чернышу.
— Кто дома? — спросил Пчелинцев.
— Мама. А можно ему дать сахару?
— Пес знаешь что ест? Только моравские колбаски.
— А мы их уже съели.
Володя положил руку на мальчишеские вихры и примял их задумчиво. Стекла его очков, металлические дужки, да и тугая кожа щек предвещающе блестели.
— Позови-ка маму.
— Зачем? — почувствовал что-то и мальчишка.
— Спрошу, чего ж она не оставила Чернышу моравскую колбаску…
Из дома вышла дородная блондинка во всем джинсовом — брюках, жакете и босоножках. То ли костюм был маловат, то ли такой был покрой, но женщина казалась спеленутой, и я не представлял, как она в него втиснулась.
— Пройдемте за изгородь, — предложил Володя, глянув на мальчишку.
Блондинка пожала — по-моему, очень рискованно для жакета — плечами и вышла на улочку.
— Зачем вы плюете в нашу душу? — спросил Пчелинцев, набычившись.
Даже в сумерках ее широкое и белое лицо заметно покраснело, вернее, потемнело.
— Не понимаю…
— Зачем вы свалили под сосну одиннадцать мешочков с отходами? На тачке везли?
— Все бросают в лес.
— В Литве берут под охрану видные деревья, обнажения пород и даже отдельные валуны. А вы под такой красавицей нагадили.
— Попрошу выбирать выражения!
— Он сказал в экологическом смысле, — поспешил вставить я.
— Нет, в физическом, — повысил голос Пчелинцев. — Буквально навалила кучу хлама, шишки-едришки!
Они дышали тяжело, будто работали на погрузке. Блондинка совсем потемнела лицом и с опаской поглядывала на Черныша, который урчал у ее ног.
Мной завладело только одно желание — оттащить Пчелинцева.
— Если завтра утром не будет убрано, то я приведу участкового.
— Хорошо, я уберу, — задохнулась женщина. — Но скоро общее собрание, и там напомнят, кто вы такой.
— А кто я такой?
— Сверчок, который должен знать свой шесток, — с чувством сказала блондинка и захлопнула за собой калитку.
Мы побрели по сумеречной улочке. Настроение мое, и так невысокое, упало вовсе. Неужели Пчелинцев, сообразуясь со своей теорией, получает удовольствие от подобных дрязг? Я глянул ему в лицо — он улыбался. Тут же деревянная ладонь упала на мое плечо, как сосновая жердь:
— Агнешка нас ждет, шишечки-едришечки!
11
Но Агнешка нас не ждала — принимала гостей. Уже виденного мною профессора-миколога, его жену и еще какую-то старушку, большую специалистку по сбору клюквы, оказавшуюся кандидатом химических наук.
Я успокоился. Вероятно, от тепла, от еды, от мятного чая с медом. Было выставлено два сорта наливки, к которой никто не притронулся. Агнесса потчевала неустанно, кстати и вида не подавая, что меж нами пробежала черная кошка. Старички шутили мягко, как-то старомодно и ели много пирогов. Почему-то так вышло, что каждый вспоминал смешные истории; вряд ли они блистали остроумием, но все смеялись раскованно. Я смеялся вместе со всеми, удивляясь: там, в городе, за сосняками, только бы вежливая усмешка тронула мои губы.
Из реплик я уловил, что подобные чаепития с поеданием пирогов бывают через день, и даже не это меня удивило — мало ли сбивается каких компаний… Но сюда ходили разные люди, и главным образом ученые. К сторожу. Не хотели сами печь пирогов? А я? Не хочу есть суп из пакетиков?
Громче всех смеялся Пчелинцев, слегка поухивая. Агнесса смеялась почти беззвучно, но темные глаза так горели, что ее смех казался не тише. Миколог заходился кашлем. Жена его и смеялась, и дубасила миколога по спине. Клюкволюбка отирала смешливую слезинку. И я хихикал радостно.
Вдруг меня осенило: да не над россказнями они веселятся, и все вспомянутые истории тут сбоку припека. Они смеются, потому что им хорошо. Тепло, пахнет деревом и мятой, пироги непередаваемого вкуса, кроличье рагу тоже непередаваемого, за окном сыпучая осень и гавкает Черныш… Да и где теперь попьешь чаю из трех, каждый раз новых, травок или кофе с козьим молоком? И еще, может, главное, — город был далеко, за валами и гривами сосняков.