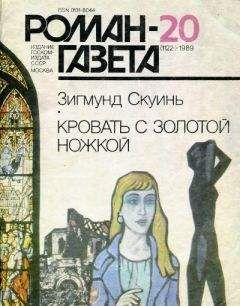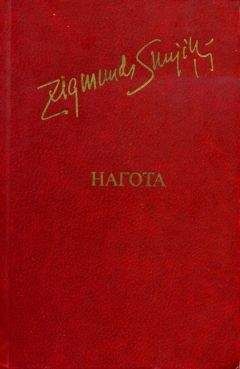Никакого словоизлияния, никакой пустопорожней болтовни: закончив фразу, она умолкала и сидела с отсутствующим выражением на лице.
— Как он оказался в этом доме?
— Он вернулся из-за границы. У нас обычно селились возвращавшиеся из-за границы товарищи.
— У него была отдельная квартира? — спросил Имант, понимая, что уводит разговор в сторону.
— Нет, комната. Большая, удобная… Это было зимой в первый год войны, очень суровой зимы. — Она потерла свои тонкие ладошки, как если бы сидела у огня, и бросила на него взгляд, означавший, что эта зима частенько ей вспоминается. — Отопление работало неисправно, температура в помещениях до того понизилась, что при дыхании клубился пар. Эдуард Ноасович почти не выходил из комнаты. Сидел в пальто на табуретке посреди комнаты, покашливал и листал книжки.
— Вы хотите сказать — читал.
— Нет. — Вера Исидоровна продолжала потирать ладони. — Перелистывал книги быстро-быстро. От начала до конца. Будто искал в них чего-то. Что-то хотел проверить или уточнить.
— А что это были за книги?
— По-моему, классики. Великие теоретики: Маркс, Ленин, Плеханов. О целях и задачах революции.
— И что же, он листал их с утра до вечера?
— Нет. Иной раз не листал. Просто сидел, одной рукой придерживая наброшенное на плечи пальто. На другой руке у него была узорчатая рукавица. У Алксниса тоже были такие рукавицы. Однажды я спросила Эдуарда Ноасовича, а где вторая рукавица. Он ответил: «Где-то затерялась. Столько пройдено, столько изъезжено». Больше я о нем ничего не знаю. Прошу прощения.
Имант Вэягал смотрел в глаза старой женщины, необычно живые, с годами ничуть не поблекшие, и совершенно отчетливо видел все, о чем она рассказала: большую комнату с обледенелыми окнами, Эдуарда, сидящего на табуретке, его холодное дыхание, наброшенное на плечи пальто. Но главное — единственную рукавицу, которая нашлась среди немногих сохранившихся вещей, рукавицу, которая в тяжкую пору согревала его коченеющие пальцы.
Имант вернулся в Ригу в том неукротимом творческом порыве и томлении, когда не терпится скорее взяться за работу. Оставался один выход: побороть трудности замысла упорством прилагаемых усилий, исподволь вжиться в создаваемый образ. Теперь он знал, каким должен быть этот образ.
До конца года Имант Вэягал закончил скульптуру в глине и отлил ее в гипсе. Гипсовую модель отвез в литейный цех, где ее должны были отлить в бронзе. Но это уже было учреждение, считавшееся с нетерпением авторов не более, чем лошадь считается с аппетитом воробьев. Литейный цех всецело жил такими понятиями, как план, очередность заказов, проблемы транспортировки, наличие и отсутствие материалов. Прошел первый квартал, прошел второй. Ожидая, когда скульптура высвободится из тисков формы, всяких предварительных скорлупок и коконов, Имант нервничал как никогда. Безо всякой надобности ездил в литейный цех — вроде бы о стержнях договориться, еще раз о сплавах условиться, на самом деле лишь затем, чтобы потолкаться поблизости. Дело было сделано, оставалось отвоевавшему пространство образу превозмочь силу гравитации материала.
Памятник открывали поздней осенью в парке новой средней школы Зунте. Лил дождь, день выдался на редкость неуютным. Насквозь промокшее полотнище в нужный момент не пожелало сползти с памятника. Когда же полотнище сдернули силой, кружившийся в воздухе красный лист, сначала коснувшись древка флага, затем зонтика Леонтины, наконец припечатался к бронзовому лбу Эдуарда Вэягала. Имант, особенно не раздумывая, заботясь об одном — освободить скульптуру от всего лишнего, снял прилипший лист. Немного погодя, однако, ко лбу приклеился второй лист, краснее прежнего. Только тут Имант обратил внимание, что памятник стоит под промокшим в затяжном дожде кленом, сыплющим красной листвой.
Виестур Вэягал на открытие привез из Крепости всех домочадцев — старого, изрядно сдавшего Паулиса, все еще резвую Нанию, свою жену Валию и, само собой разумеется, маленькую Солвиту. Три старших девочки на открытии присутствовали вместе с другими школьниками.
— Папа, а кто такой Эдуард Вэягал? — Позднее, когда уже были сказаны речи, отзвенели песни и трубы, Солвита, как обычно, захотела обо всем узнать.
— Его уже нет. Он был
— А кем он был?
— Выдающимся человеком.
— Еще более выдающимся, чем дедушка Паулис?
— На это так сразу не ответишь.
— А дедушке тоже поставят памятник?
— Памятники редко кому ставят.
— А за что?
— Тем, кто сражался и пал смертью храбрых.
— И Эдуард сражался?
— Да.
— И пал смертью храбрых?
— В известной мере.
— Почему «в известной мере»?
— О том тебе расскажут в школе.
— А кто более выдающийся — кто пал смертью храбрых или работал?
— Солвита, не болтай ерунды!
— Хорошо, не буду… Пап, а он под этим памятником похоронен?
— Нет, никто не знает, где его могила.
— Почему же тогда памятник поставили здесь?
— Потому что здесь его родина.
— А что он выдающийся, точно известно?
— Да, известно.
— Все-таки насколько выдающийся?
— Ну, настолько… Чтобы помнить о нем!
— И у всех выдающихся есть памятники?
— Да.
— А где? Там, где они похоронены?
— Солвита, опять ты…
— Нет, просто хочу знать, есть ли у них памятники?
— Есть. Пожалуй, есть.
— Там, где они похоронены?
— На родине.
Последующее лето надолго отложилось в памяти зунтян как лето суровое, или лето ярого громового раската, после которого Паулис Вэягал прямо с крыши Крепости ушел к праотцам. С тех пор как красавца цыгана по кличке Кобелек смерть застигла на телеге в объятьях с хозяйкой хутора «Робежниеки», зунтяне не могли пожаловаться на однообразие ухода в мир иной своих земляков. Однако умереть на крыше дома, как это случилось с Паулисом, никому еще не доводилось. Событие было чрезвычайным; из ряда вон выходящим, и зунтяне объясняли это необычным расположением планет и обилием пятен на Солнце. В самом деле о таком случае, чтобы молния одновременно шибанула в пять деревьев, прежде слышать не приходилось.
Да и вообще в последнее время с миром творилось что-то неладное. В Африке у негров снег валил, у эскимосов на Аляске под Новый год произошло такое потепление, что реки вздулись, начался ледоход. К Земле приближалось сразу несколько комет; одна из них летела прямо на планету и лишь в последний момент чуть отклонилась в сторону. Будто в подтверждение стародавних поверий, что кометы не к добру, и международные горизонты, под стать летнему небу над Зунте, были наэлектризованы.
Уж кто-кто, а Паулис это доподлинно знал. После того как ноги ослабели, приходилось больше по дому обретаться, появилась возможность почаще посидеть у телевизора. Сказать по правде, мужская половина зунтян делилась на две большие подгруппы — хоккеистов и министров иностранных дел. Нания так и говорила: «Моего Паулиса сейчас не тронь, он на переговорах с Вулфсоном». Или: «Мой-то Паулис опять в Белом доме заседает». Не все международные новости зунтяне черпали из телеящика. И свои люди по белому свету ездили, кое-что сами видели. Новые законы о квотах лова несколько притормозили промысел, тем не менее рыболовецким судам зунтян случалось заходить во многие порты. А потом еще и турпоездки. Совсем недавно колхозное руководство всех подряд выспрашивало, не желает ли кто в Бангладеш прокатиться и нет ли кандидата для поездки на Мадагаскар?
Годы не внесли беспорядка в голову Паулиса, но в одном он повторял своего отца Августа: Паулис тоже любил вспомнить давние события и вслух потолковать с друзьями своей юности. Особенно часто тем летом общался он с Янкой Стуритисом, который как ушел в стрелки, так будто в воду канул. Кое-кто утверждал, что после первой мировой войны его видели в России, но в Зунте он не вернулся и писем не присылал.
Тем утром Виестур сказал за завтраком Нании, что вместо ушедшего на пенсию Скроманиса пришел к ним новый агроном по фамилии Стуритис. Паулис пожелал узнать имя нового агронома, Виестур ответил, что в точности не знает, но думает, что Янис. Стало быть, Янис Стуритис и есть, объявил Паулис, сделавшись совсем странным. Лицом не худощав ли, с таким заостренным носом? Виестур, ухмыльнур шись, ответил, что нос у нового агронома пока еще острый, однако жизнь довольно скоро притупляет любые носы.
Виестур этот разговор, разумеется, тут же выбросил из головы, сел в свой газик, выжал педали, заодно Валию подкинул на прополку моркови, а Солвиту в детский сад. И был немного удивлен, когда часом позже встретил в конторе Паулиса. Такой принаряженный — в коротковатых джинсах отечественного производства, в белой сувенирной кепочке из Эстонии. Паулис отшучивался, у него, дескать, свидание с пригожими конторскими девчонками, но сразу было видно, что-то он в душе затаил. Позже, уже по второму разу повстречавшись с сыном, объявил без обиняков: хочет видеть Янку Стуритиса.