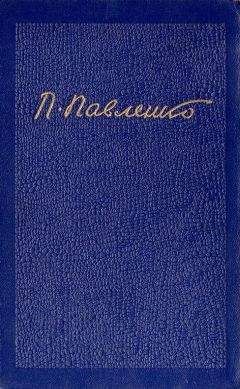— О продовольствии нечего и беспокоиться, — мирно сказал председатель Заготзерна. — Все будет, только скажите, куда доставить. На две дивизии гарантирую.
— У меня двенадцать маток по восьми пудиков каждая — пожалуйста. Не в этом дело, — поддержал его кооператор.
— Хоть бы убраться успеть, — сказал третий, на костылях, и Опанас Иванович узнал в нем председателя колхоза Урусова. — Пшеницу бы убрать. Разве ж можно, чтобы все, знаете, бросать.
— Ты давно ль с переправы, друг? — спросил его Опанас Иванович.
— А-а, здорово, здорово!.. Вот удача… Засветло, до дождя выехал… Положение превосходное. Немцы сунулись пехотой, ну, им так дали… Превосходное положение, — говорил Урусов, вертясь на костыле и возбужденно вскидывая пилотку с затылка на лоб и обратно.
— Держитесь, товарищи командиры, одно держитесь, потому — сила будет… Это ж что, ей-богу, такую чашу отдать…
Раненые, кто мог, придвинулись ближе.
— Видишь, хлопцы, товарищи мои командиры, товарищи ответственные работники, видишь, какая война! Хоть стой, хоть лежи, а каждый метр своей земли сторожи… Это уж я вам, поверьте… Это хуже нет бежать да стратегию искать, где попало.
«Так, так, — думал старый Цымбал вслед мыслям Урусова. — Может, и дурак, а все равно народ в нем заговорил, это он не от себя, это мирское, так и все в душе…» — И радость за то, что он раньше Урусова понял, что делать, и добился своего, стала сбрасывать с него утомление.
— Ночку бы, Гриша, зря нам не потерять, — сказал он сыну, намекая на возможность ночных вылазок.
— Ночку выиграем, тогда и день наш…
Вдруг дверь в помещение широко распахнулась и что-то яркое наполнило комнату, как рассвет сквозь неплотные ставни.
— Под прожектор взяли! — закричал с порога Илюнька. — Враз накроет…
Толкая и давя друг друга, раненые, а за ними и здоровые бросились к выходу.
Двор, залитый напряженным фиолетовым светом, был весь как на ладони. Кони, испуганные светом, бились у коновязей. Казаки кричали и бестолково бегали с седлами в руках. А в темном небе, курлыча, как раненые журавли, шли первые немецкие снаряды.
Опанас Иванович увидел, как Григорий, стоя в полосе света, что-то прокричал казакам. Лицо его сверкало, и сверкали, точно высекали искру, золотые зубы во рту, но слов не было слышно ни тогда, ни после, когда в глаза Опанаса Ивановича, как камнем ударило темнотою. Он почувствовал, что жив, но отдаленно, в глубоком, сковавшем тело сне. Чувствовал, что лежит, потом почувствовал, что тело его двинулось — само ли, на чужих ли плечах, этого он не мог понять, но оно двинулось, и вблизи зазвучали голоса, хоть он не слышал слов и не мог бы узнать, кто говорит.
…В ту ночь от казаков Григория Цымбалы никого не осталось. Ксеня посадила деда в седло к Белому, а тело отца, разорванное и полусожженное, затюковав в бурку, прикрепила к своему седлу.
Потом Белый, перекрестясь, вскочил на своего высокого жеребчика, помог Ксене взобраться на Авоську, и они тронулись в сторону переправы.
По вспаханным, разбухшим от дождя полям конь под всадником делал километр в час. Потом к дождю прибавился ветер. Он был встречным и такой неслыханной силы, что забрасывал на спины полы мокрых бурок, сдувал с головы папахи. В два часа утра пришлось опростать вьюки. В два тридцать повели коней в поводу. В эту ночь надо было пройти около восьми километров, что оказалось свыше человеческих сил. Но хорошо, что, когда человеку трудно, им всегда владеет одна какая-нибудь мысль, и обычно самая важная в эту пору. Такой мыслью, от которой зависели все остальные, днем вчера была мысль о бое, теперь — чтобы двигаться. Она отстраняла все прочие и была одна.
Мозг точно превратился в слух и руководил дыханием. Только дыхание и сердце имели сейчас значение. Усталость была так велика, что страшно было передохнуть. Именно усталость поддерживала Ксеню и Белого, не позволяя остановиться, не страх — они уже были по ту сторону страха, — а именно усталость рождала безжалостное и бредовое состояние.
В три могло б развиднеться, если б не дождь, но было темно и в четыре.
Впереди, правей переправы, не утихая, шел медленный, как бы тоже донельзя усталый бой.
Резкие, кажущиеся испуганными, пулеметные очереди, короткий, круглый, упругий звук взорвавшейся мины и нечастые, кучкой грохочущие удары пушек — тянулись всю ночь до рассвета.
Утро обозначилось в начале пятого на дороге, забитой подожженными немецкими танками, истерзанными мотоциклетками и транспортерами для пехоты.
Заря едва прорезывалась сквозь низкие тучи. В полях бил перепел, а в небе, еще мокром, но уже манящем смутной голубизною, слышался веселый крик журавлей, тот светлый, далеко слышный крик, которого в старину желали запорожцы своим избранникам, вручая им атаманскую булаву.
«Дай тобi боже, — говорили они, — лебедѝний вiк, а журавлѝний крик». Крик вечной вольности стоял в небе, и Цымбал почувствовал его всем трепетом старого тела, — журавли предвещали ему победу, — и он очнулся и долго ничего не слышал, кроме этой уютной песни неба, которую так любил с самого раннего детства и с которой связывал много хороших, чистых воспоминаний.
Река была недалеко. Тускло-чешуйчатая сизая полоса ее слегка дымилась туманом, к которому на том берегу примыкал черный дым горящих колхозных хат. Дымилось и в садах на этом, западном, берегу. Казалось, здесь все должно было тлеть, даже камни.
События минувших суток быстро и полно, единой вспышкой представились ему.
— Где Гриша? — тихо спросил он.
— Ксеня Григорьевна при себе везут, — ответил Белый.
— Ты… с нами?
— С вами, Опанас Иванович.
— Похоронить бы его надо…
…Вокруг было много готовых могил. Воронки, вырытые снарядами, могли вместить не одно тело. Небольшой бурочный тючок установили у края воронки, Опанас Иванович, Белый и Ксеня сняли папахи и, преклонив колена, долго стояли в молчании.
Потом, когда оно утолило печаль их, Опанас Иванович сказал:
— Вот, дорогие мои, лежит передо мною старший сын мой, коренной кубанский казак Григорий Цымбал. Хорошую смерть принял он. Не обойди, боже, и нас своей милостью, пошли не хуже… Кланяюсь славе твоей, Григорий. Был ты у меня верный сынок. Почил бы дома ты, в саду положил бы тебя я, под родными яблоньками, и памятник над тобою поставил бы, а на нем цифры всего семейства нашего… Чтоб, как отойдем мы все, не забылась слава наша и дело наше осталось на миру. Чтоб сказали — недаром заводил Опанас Цымбал семейство свое, и было доброе зерно у него… Конешно, теперь если порассудить, то, может, и рано ты смерть принял, и я виноват в том, да ведь в огне брода нет… нет брода в огне, Гриша.
Опанас Иванович коснулся рукой тючка и погладил его нежно, как гладят спящих детей, и, боясь не совладеть с горем, нахмурился, пожевал губами и сказал поучительно:
— Где казак пал, там и курган встал. Исстари так повелось. Найди-ка, Коля, дощечку да напиши на ней:
«Насыпьте над сей могилой курган боевой,
спит здесь геройским сном казак огневой.
Имя его Григорий Опанасович ЦЫМБАЛ».
Потом, точно не помня, где он, отошел прочь и, глянув в небо, курлычащее журавлями, сказал:
— Сзывай. Ксеня, казаков. До смерти еще далеко, — и свалился как мертвый.
Очнулся в колхозе Урусова.
— Проезжайте вы, за ради бога, я сейчас мост минирую, — услышал он голос председателя и открыл глаза. Урусов приплясывал на своем костыле рядом с конем.
— Не думал я тебя живым увидеть, отец, — сказал он.
— Минируешь? — спросил Цымбал.
— А что, так пустить? Я, брат, тоже крутого засолу. Ну, прямой вам путь, легкий ветер. Попусту не задерживайтесь.
Кони почуяли дальний путь.
— На Кубань! — сказал Опанас Иванович. — Живого ли, мертвого, туда везите.
3
В середине октября 1942 года в большую и когда-то шумную, веселую станицу Т. привели партию пленных красноармейцев и арестованных мирных граждан.
Было уж под вечер, когда их стали переправлять на десантном баркасе, заменявшем паром, через Кубань, чтобы поместить в полусожженном совхозе. Грузили человек по пятнадцать — двадцать.
Казачки и казачата робко сгрудились возле переправы, высматривая в колонне своих родных и знакомых.
Перевозил Кондрат Закордонный, паромщик с царских годов, которого все знали и который тоже всех знал.
Он был тут, как живая почта, живой справочник. В первой группе из пятнадцати человек шел невысокий старичок с аккуратной седенькой бородкой, при нем, все время держась за его руку и не поднимая глаз, семенила девушка. Не особенно рослая, щупленькая, как и старик, с худым, запекшимся от истощения и усталости лицом. Закордонный только взглянул на старика и сейчас же растерянно отвел глаза — перед ним стоял Опанас Цымбал.