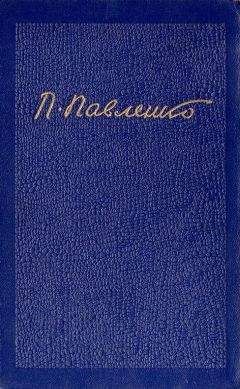В молчании паромщик отвалил от берега и энергично взялся за канат. Низкий ветер бежал по реке, между высоких берегов, и понтонный бот рвался за ним. То и дело поворачивало его бортами к ветру, то и дело пытался он юркнуть под канат, но старик легко ухитрялся сдерживать капризную посудину, бранясь вполголоса.
— Налево, дьявол, тянешь?.. — ворчал он, подчеркивая иные слова. — Ишь ты, понизу… бережком… Будь ты проклят, окаянный… В лесок захотел?.. Сюды, сюды вертай… Сатана… по-над бережком, по-над ветром…
Когда переправили первую партию и бот возвращался за следующей, Закордонный, сняв шапку, попросил дать ему помощника и ткнул пальцем в невысокого старика. Немецкий фельдфебель, торопившийся до темноты доставить колонну по назначению, разрешил, не взглянув на Цымбала.
Первая, а за ней и другие партии поджидали конца колонны, сидя на сыром берегу, в начале хуторских улиц.
Фельдфебель все время торопил паромщика, но тот и сам теперь спешил. Зычно бранясь и раздавая подзатыльники арестованным, он то заставлял их тянуть канат, то, дав в руки шест, направлять заносимую ветром корму, но, очевидно, ветер становился сильнее — на четвертой ездке бот ткнулся в мель на самой середине реки.
Темнело неудержимо. И как ни странно, на реке было всего темнее. Берега, озаренные неприятным багрово-фиолетовым полумраком, еще различались, но Кубань была черна, как полоса ночи, тайно от всех ползущая по воде.
Когда после доброго часа ругани и посылки лодок с заводными канатами бот снялся с мели, ни старичка, ни девушки с безумным лицом нигде не оказалось.
На утро станица Т., и хутор за Кубанью, и железнодорожная станция, что в двенадцати километрах, и совхоз, и зверопитомник только и говорили о том, что вчера ночью от немцев сбежал знаменитый кубанский мститель Опанас Иванович Цымбал, попавший в руки немцев под другим именем.
— Дай ему бог дорогу! — говорили старые казаки, а старухи, ложась спать, прислушивались к каждому шороху за стеной хаты — не попросится ль кто ночевать. Но Цымбал не объявился. Он был уже далеко. Той ночью, когда, покинув бот вместе с Ксенией, он, как советовал ему Закордонный, пробрался по-над берегом в лесок, забирая как можно левее, — он виделся только с двумя-тремя старыми приятелями в хатенке Закордонного.
История Цымбала со времени боя за степную переправу на Безымянке выросла не в обыкновенную большую жизнь человеческую, а в легендарное народное житие, когда кажется, что и тот, кому посвящена легенда, не больше, как рассказчик событий, свершающихся со всеми.
О гибели Григория передавали разно и чем далее, тем все с большими преувеличениями, будто бы Опанас за сына уничтожил две тысячи немцев да еще написал письмо их генералу, что программу свою считает невыполненной.
Говорили, что Опанас Иванович дал зарок — хоть всех детей и внуков положить, но сто тысяч немцев обязательно успокоить, и что будто бы в этом духе он даже напечатал письмо с призывом ко всем своим, разбросанным по фронтам.
К истории о гибели сына присоединили рассказ об измене зятя, Ильи Куроверова, который-де оказался у немцев и обещал словить и доставить начальству беспокойного тестя своего, а также и жену свою Веру, если они попадутся ему на глаза.
Старик, узнав о таком илюнькином обещании, не стал ждать, явился к нему сам и застрелил, что поздоровался.
Утверждали, клянясь, что раненная под Ростовом дочь его Вера Опанасовна, жена Илюньки Куроверова, после того разыскала отца (она будто бы тоже не ушла с Кубани, а хоронилась у добрых людей) и рука в руку с отцом два месяца сражалась за Лабой в партизанских отрядах, пока шальная пуля не остановила ее жизни.
По рассказам знающих, Опанас Иванович после Лабы ушел из отряда с внучкой Ксеней и молодым казаком Колькой Белым под Краснодар, но в сентябре его и внучку, однако без Белого, видели на Кавказской, встречали в Армавире.
И сейчас же началось там такое, чего все ждали, но на что никто до той поры не рисковал, — немец узнал и что такое осенняя кубанская ночь, и что таит в себе степь кубанская, и что обещает бурная и открытая Кубань-река.
За голову старого Цымбала немцы обещали большие деньги. Его фотографии — и в форме, с георгиевскими крестами и «Красным Знаменем» на груди, и в рабочем виде, каким он выглядел в мирные дни на хуторских виноградниках, — были разосланы всем станичным атаманам, всем гестаповцам на железнодорожных станциях.
Когда один кто-нибудь делает то, что мечтают делать сотни и тысячи других, молва приписывает ему столько же вероятного, сколько и невероятного, столько же осуществимого, сколько и невозможного. Видя в таком человеке самого себя, каждый отдает ему и лучшие свои мысли и благороднейшие поступки. Все, что свершается доброго, дело его рук. Злое имеет место, только когда он вдали, и чем меньше способны сделать люди, верящие в своего героя, тем больше чудес приписывают они избраннику своих тайных надежд и упований…
Опанас Иванович стал именно таким всеобщим героем.
Он знал о своей славе и не гнал ее от себя, но как бы молчаливо терпел до поры до времени.
На вопросы, он ли действительно сделал то-то и то-то, Опанас Иванович никогда прямо не отвечал, точно это были вопросы, в высшей степени неприличные, касающиеся секретнейших тем, а когда очень надоедали ему, отмахивался, приговаривая:
— Честному зачтется, с подлеца вычтется.
Но утаивая масштабы собственного участия в освободительной борьбе, он не жалел слов, рассказывая о чужих подвигах.
Казалось, — и Опанас Иванович это подчеркивал, — что он в курсе всех дел и настроений на оккупированной немцами Кубани, в связи со всеми активными ее силами и потому знает решительно все и обо всем может судить на основании точных данных…
Старики сидели в ту ночь в шалашике у реки. Внучек Закордонного, мальчик лет четырнадцати, стоял на страже. Он был взволнован появлением знаменитого Цымбала и гордился, что ему поручено охранять его. Несколько раз он уже подходил к беседующим старикам, разглядывал их, будто убеждаясь, они ли это, и опять тихо исчезал за деревьями.
Опанас Иванович рассказывал, какие события назревают на Кубани и какой линии держатся наши в Армавире и Краснодаре.
— Фашиста убить все равно что своего сберечь, — отрывисто говорил Опанас Иванович, пытливо разглядывая лица слушавших его. — Десяток убил, свой народ на девять душ уберег, а то и увеличил на десять душ. Вот так и действуют, и вам так советую. Я старик, и то таким манером живу. Как его не уничтожу, так будто и не жил. Партизанствуйте всеми силами, ждать нечего. В Армавире ребятишки, и те в отряды сгарбузовались, связь режут, автомобили из строя выводят, к минам приглядываются… Поняли? Как немец станет назад заворачивать, дома обязательно начнет рвать, мимы под них ставить. Разминировать придется.
— Дождемся ль когда наших-то? — вздохнул Закордонный.
— Дождемся, — твердо сказал Опанас Иванович. — На Тереке, — давеча один словак мне рассказывал, — немца уже горячка треплет. Надо хороших дел ожидать. А как услышите, что наши ударили, враз беритесь за топоры. Тут приказа ждать нечего.
Как бы случайно положил Опанас Иванович руку на плечо Ксени. Она поняла что-то и, встав, вышла из шалаша.
Опанас Иванович продолжал:
— В Краснодаре многих я видел. Доходят весточки и от наших кубанцев с фронта. С генералом Кириченкой в моздокских степях дают они немцу пить.
— Доброе дело, — сказали старики. — А поименно ничего не слыхал, не рассказывали?
— Ивана Евдокимовича Хрулева кто из вас знает?
— Ну, этот… он всегда на всех съездах, слетах бороду, что павлин свой хвост, распустит…
— Ну, ну, ну…
— Так он, рассказывали, за один бой семь танков, старый чорт, подбил.
Старики довольно рассмеялись.
Шурин Дряпаченкова Антона Иваныча тоже кавалер двух орденов, сынишка Гендлера, был у нас такой винодел, тоже вверх вылез, из ваших Чвялева поминали, Топоркова, Варвару Парникову…
— И Варвара в строю?
— В строю, как же. Разведчик.
Пока Опанас Иванович перебирал подвиги кубанцев, о которых довелось ему слышать от верных людей, Ксеня, все так же опустив голову, будто что-то ища на земле, пошла по саду.
Внук Закордонного вышел ей навстречу.
— Вы куда, не в хату к нам? — застенчиво спросил он ее. — А то я вас проведу, идемте.
— Погоди, — тихо сказала Ксеня. — Чего мне в хату к вам ходить?.. Я к тебе. Давай сядем.
Мальчик не спускал с Ксени глаз.
— Это дед твой? — спросил он.
— Дед.
И боясь, что он начнет расспрашивать ее о том, чего ей не хотелось касаться, она быстро спросила:
— А ты как, занимаешься немцами? Что так?.. А ты один, один, без компании. Свой риск, свой и писк, как дед говорит. Одному хорошо, вольно.