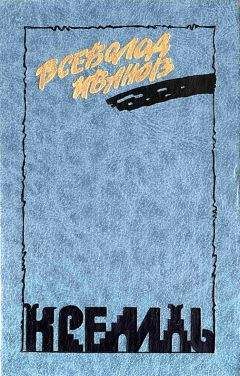— Я удивляюсь, отец, у тебя свидания в Москве с наркомами, мы ждали твоего возвращения через неделю в Мануфактуры, а ты, при непонятных для меня обстоятельствах, слез в Кремле, а?..
— Я очень признателен, Трифон, что, кроме винтиков в машинах, тебя интересуют винтики, которые приводят в движение людские жизни. Ехал я на пароходе и думал, что раньше люди строили дворцы, надежда найти в них счастье одушевляла их, — так сказать, ныне же строят машины, и сие одушевляет их. Тоже надеются на счастье! Оптимизм — он неистребим, дорогой. Я подумал, что не стоит мне бросать мои плоты и выгодную работу с Иваном Петровичем Лоптой и к тому ж что-то не хочется тебя спасать и делать хлопок. Руками дураков, подумал я, ловят змею — и слез в Кремле. К тому же, на пароходе и стерлядь тухлая.
— Ты притворяешься, Лука, я знаю, какие мотивы руководили тобой, когда ты слез с парохода. Я проверю, и едва ли ты меня увидишь, если подозрение мое окажется правдой. Кто тебе передал записку от Лопты на пароход?
Лука Селестенников не ответил сыну. Он только пробормотал что-то вроде того, что, мол, не сам ли ты, Трифон, охвачен искомым тобой волнением, и Трифон, больше почувствовав, чем услышав его слова, велел извозчику повернуть. Толпа ринулась, унося с собой профессора к чайной, у которой пал медведь. Медведь задохнулся. Человека, которого он волок на себе, отливали водой. Змея уползла в лопухи, ее искали мальчишки. Лука Селестенников, сердясь на сына и на себя за неудачный и лживый разговор, пытался полюбоваться плотами. Их приплыло много; шли в обход их, за милостыней, нищенствующие ужгинские попы. Они шли, подбирая рваные рясы, и рясы все-таки шелестели, задевая съежившуюся кору, отскочившую от бревен, только что выброшенных на берег. От бревен пахнет глиной, и вода маслянисто виснет на зеленоватых боках их, на боках, которые много дней колыхались по водам Ужги.
II
Вавилов поступил на фабрику. Парфенченко, как и сказал, встретил его в десять, скучным голосом расспросил Вавилова о прежних работах и дал к директору «служебную записку». Вавилов понимал, что нелепо идти к директору, который только что отказал, и он направился к его заместителю. Заместитель черкнул поперек: «Согласен». Вавилов подумал, что на этот раз ему удастся освободиться от присущей ему не то что боязни машин, а вроде желания обойти их. Дабы рассеяться, к тому же и похмелье стряхнуть, — он согласился пойти с Колесниковым, который наконец решил посетить свою жену Зинаиду, старшую дочь одного из «пяти-петров». Колесников сказал, что жена первая должна прийти, но Зинаида не шла. Колесников шагал хмуро, и видно было, что взял он с собой Вавилова лишь для того, чтобы тот рассказал четверым, как Колесников умеет обращаться с женой и тестем. Колесников писал жене большие хвастливые письма о занимаемых должностях, о карьере, а карьера обещалась, а на самом деле протекла где-то за спиной Колесникова.
Колесников был взят в дом «пяти-петров», когда они начинали строить первый дом старшему Петрову, Колывану Семенычу. «Пять-петров» рассчитывали на розовые руки и сильное туловище Колесникова, а он, после полугода гульбы и мечтаний, встретив на ярмарке «троих думающих», пошел с ними четвертым. Зинаида осталась одна, ждать. Она ждала, и вот, идя сейчас к «пяти-петрам», Вавилов думал, почему она ждала? Собой, как говорили, она была и крепка и хороша; ему любопытно было на нее взглянуть. А кроме того, сегодня, когда он сознавал свою жизнь несколько устроенной и когда он мог быть к себе несколько осуждающ, он согласился с мелькнувшей мыслью, что его всегда прельщала состоятельность и жадность людей к деньгам. Он извинял это в себе, так как ему за всю его жизнь денег видеть пришлось мало, жалованья он никогда не получал больше тридцати рублей в месяц, а когда на последней службе пообещали сорок пять, он был сильно доволен.
Колесников самоуверенно вошел в дом. Зинаида была действительно хороша, особенно удивляла в ней превосходная шея, да и голос у ней был отличный, и платья она любила носить такие, которые показывали ее шею и как бы обнажали голос. Колесников попросил сразу же водки; с хохотом, неумело, стал врать, как четверо устроили Вавилова и как они напугали А. Парфенченко, поймав его у Клавдии-сорокарублевой, и Парфенченко принял Вавилова, будто высококвалифицированного, без биржи. Зинаида, откинув назад голову, внимательно слушала и внимательно приглядывалась к Колесникову. Ее недавно выбрали цеховой делегаткой, и ей хотелось рассказать Колесникову, что ее кандидатуру хотят выставить от завода, в числе других выдвигаемых ткачих, в уездный и городской советы. Ей было противно смотреть на рыженького задорного человечка, которого Колесников привел с целью похвастать своей силой перед «пятью-петрами», и еще ей было противно смотреть потому, что у нее скользнула мысль о том, что не напрасно ли она ждала и верила письмам мужа семь лет! И чем дальше, тем больше Вавилов возбуждал и в ней и в «пяти-петрах», сидевших рядком на венских стульях, негодование и отвращение. Вавилов находился в доме старшего из «пяти-петров» Колывана. Угощенье готовила младшая его дочь Вера, та, которую встретили на шоссе Гурий и его отец.
«Пять-петров» сильно любили и уважали друг друга, они даже завертывать папироски стремились из одного портсигара, то вынет Колыван — закурят, то вынет Яков, то Зиновий, прозванный Журавлем, то Костя, тоже с прозвищем, которое он очень любил, — Чираг. В двадцать первом году, после войн, когда Зиновий возвратился из германского плена с душой, наполненной чудесами немецкого духа, — по щепочке и по гвоздику собрали они и выстроили Колывану дом. Строить они начали на пустыре, отделенном канавой и высоким забором от лесных складов Мануфактур. Колыван Семеныч рассчитывал, что за ними пойдут постройки, и он не ошибся, — теперь, кроме трех домов, сооруженных братьями Петровыми, и срубом для четвертого, — рядом и позади Колывана тянулись три улицы домов.
«Пять-петров» гордились своей затеей, и гордился жадностью их и хозяйственностью их — весь поселок. В доме их чувствовались сила и накопление, они разводили породистых коров и свиней, на столе Вавилов увидал сельскохозяйственные журналы, в углу под иконами чернело радио, и Колыван объяснил, что слушает он по нему законы; после закуски они обещали завести граммофон. Все это крепкое хозяйство напомнило Вавилову ижевских и вятских рабочих, тоже крепких и основательных, которые в свое время составили две дивизии из рабочих за Колчака, — и бились эти дивизии с Вавиловым крепко… Колесников погладил Зинаиду по шее и спросил Манилова:
— Есть ли у кого жена красивей моей, как полагаешь?
Вавилова раздражала привычка Зинаиды откидывать голову назад, — и он сказал:
— Нынче спрашивают — не красивей, а умней! — И он сразу понял сказанную им обидную глупость, которую «пять-петров» запомнят, и они, точно, один за другим посмотрели на него медленно, и старший Колыван отозвался:
— Одно, что она верна, — это, гражданин милый, уже ум. Она семь лет глаза поднимала только на родных. Изъяснился ты!..
— Есть чему радоваться, — сказала Зинаида мужу с неудовольствием, и опять закинула назад голову.
«Пять-петров», все еще думая об обиде, нанесенной им Вавиловым, смотрели в пол. Марина Никитишна, жена Колывана, собрала в беседочке, аккуратно сбитой из досок и даже окрашенной, среди малинника, — закуску. Она несла бражку и ласково напомнила мужу, не помнит ли он, как она раз, сготовивши тоже бражку в бочонке, попробовала его всколыхнуть, и как выскочила пробка, и как ударила бражка пеной, и побежала она на фабрику, с перепугу, за мужем, а дорогу к мужу она перепутала, и вывел ее в цех Колесников, и был тогда Колесников еще с полными волосами… Колыван Семеныч прервал ее:
— Отличное время было, хотя и при капитализме: теперь и фабрику-то огораживают, как окопы, да еще и с пропусками, и на бражку-то надо от пайка отделять…
Марина Никитишна продолжала, собирая тарелки, что побежали они с мужем домой, а пока прибежали, бражка-то и вытеки.
«Пять-петров» взялись за стол, чтобы нести его в беседку. Зиновий отстегнул пояс с револьвером — он служил милиционером. Стол был длинный и крепкий, видимо, сделанный своими руками. Все пять несли стол легко и быстро. Они высоки и загорелы. Малинник вычищен, приглажен, и ягоды в нем в меру зрелые, покрытые легким пушком, и весь малинник в чуть заметной, хозяйственной паутине. Вера поставила на стол четверть с бражкой; Колесников гудел в доме; Вавилов плохо разбирался, почему он пошел за «пять-петрами» и за их столом.
Они сели. Вавилов стоял перед ними. Они смотрели на Вавилова. Они не приглашали его сесть. И Колыван Семеныч сказал торопливо, пока еще не пришли женщины и Колесников:
— Ну что, рыжий, чужой хлеб науживать явился? Жри, слякоть!
Они смотрели теперь на него нагло и весело. Он отошел, пощупал волосы.