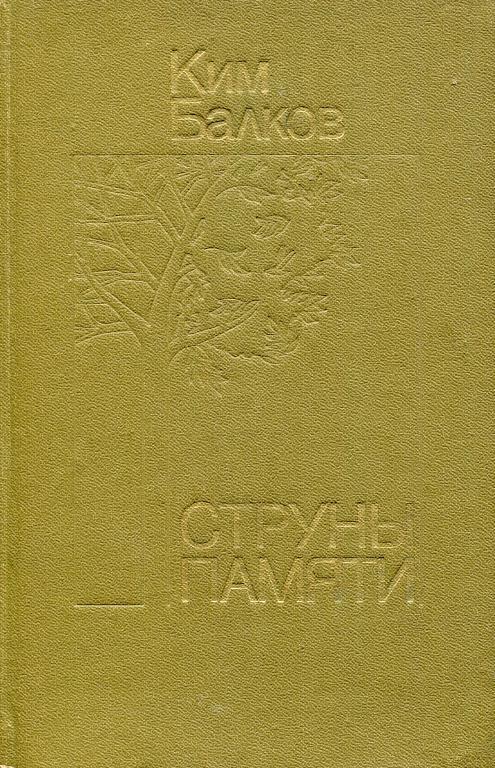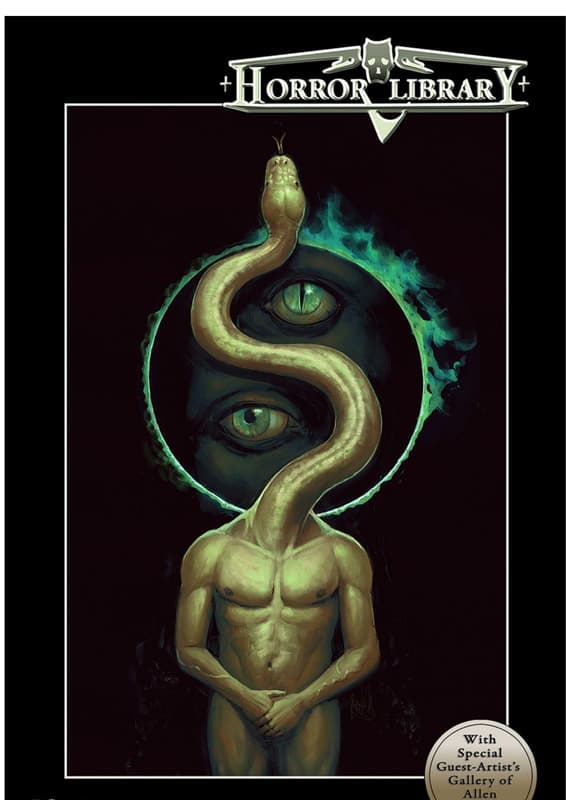мужчина с палкою в руке, удивительно похожий на отца. То и был отец, подошел, привычно прихрамывая на правую ногу, сказал, улыбаясь:
— А, это вы?.. Я так и думал, что вы где-то здесь. Ваша квартирная хозяйка, теперь уже бывшая, и говорит, когда я спросил у нее: а я отказала им… Забеспокоился. Долго искал. Ну и нашел, стало быть.
Отец приехал из деревни автобусом, сказал матери, что у него дела в военкомате, и приехал… А был уже вечер, и серые сумерки легли на аллею.
— Пойдем к знакомым, — сказал отец. — Примут, думаю. Хозяин-то — мой фронтовой товарищ…
Они отыскали квартиру в большом пятиэтажном доме, где жил фронтовой товарищ отца. А потом до глубокой ночи сидели за столом, отец был весел и находил умные и сильные слова, каких Черных от него никогда не слышал. Поутру отец уехал, а они с Машенькой остались, и хозяин был даже доволен, что теперь не придется скучать: все не один.
— На мать не серчай, — сказал отец на прощанье. — Тяжело ей со всеми вами. Я не в счет. Какая от меня подмога?.. — Он грустно развел руками, потом постучал палкою об пол. — Так-то, сынок. Мать, может, оттого и бывает злая, что тяжело ей. А кому пожалуешься?..
Черных часто вспоминал эти слова отца, но они до сих пор казались привычными, стертыми. А теперь, сидя в вагоне электрички, подумал, что был не прав и не умел понять чего-то… И с тревогою посмотрел на соседа, но сосед не заметил этого и стал спрашивать, как он живет да сколько у него детей и где работает жена. Черных нехотя отвечал, а сам все думал, когда же соседу наскучит спрашивать и он замолчит.
За окошком вагона была все та же степь, большая и синяя, и, кажется, не было ей ни конца ни края. Но так только казалось. Когда Черных, воспользовавшись тем, что сосед, выговорившись, замолчал, снова посмотрел в окошко, степь была меньше, уже скоро ее и вовсе не стало, пошли высокие, одна подле другой, с голыми вершинами, у изножья лесистые, сопки. Потом и сопок не стало, начались крутые черные горы. И Черных догадался, что скоро будет райцентр… И, когда электричка остановилась, а из вагона, спеша и подталкивая друг друга, начали выходить люди, уже не слушая соседа, который опять начал говорить, впрочем, и не досадуя на него, прильнул к холодному, по которому стекали дождевые капли, стеклу… Он надеялся увидеть школу, где учился, но многоэтажные крупнопанельные здания, которые стояли сразу те за перроном вокзала, мешали разглядеть, что было там, дальше… Школа у них была двухэтажная, бревенчатая, и стояла она на пригорке и была хорошо видна со всех сторон. Но теперь ее не было видно, и Черных стало грустно: подумал, что, наверно, ее уже нет на прежнем месте. Еще подумал о том, что школа была холодная, и зимою ученики мерзли и учителя разрешали им в крещенские морозы сидеть в классе, не снимая верхней одежды. А он ходил в телогрейке, и она была старая и большая для него — с отцовского плеча, — и писать в ней было неудобно, и он, случалось, порядком мазал в тетради, и учительница, в общем-то тихая и скромная и нередко робевшая перед учениками, делала ему замечания. И он покорно выслушивал их, но все оставалось по-прежнему… Впрочем, телогрейка порой и выручала его. Это когда замерзали в непроливашке чернила, и он заталкивал ее в рукав, где чернила быстро «отходили» и уже через пару-другую минут можно было снова писать. А еще он научился прятать в рукаве шпаргалки и потом умело пользоваться ими. Сядет за парту, затолкает в рукава руки, поеживается, оглядываясь и делая вид, что ему — ух, как холодно, а сам все следит за учительницею. И, когда она устанет смотреть в класс и отвернется, он нащупает в рукаве нужную шпаргалку, вытряхнет ее на парту…
— И чего ты там выглядываешь?
Черных нехотя обернулся к соседу, сказал:
— Тут, недалеко от вокзала, была школа, и я учился в ней. А теперь что-то не вижу…
— Да уж нету той школы, разобрали по бревнышку. Школа теперь в другом месте, сразу у леса, кирпичная…
— А-а… — сказал Черных, и, видно, услышал сосед в этом вздохе разочарование и сочувственно похлопал его по плечу, заключил философски:
— Все, что ни делается, — все к лучшему…
Слова были привычные и не стояло за ними ничего другого, а только то, что они обозначали, и все же эти слова не понравились ему, и он сказал почти с вызовом:
— Так ли?..
— Так… В деревне, откуда теперь еду, леспромхоз надумали ставить. Люди расшумелись: надо ли?.. Небось зверя уж и за сотню верст не отыщешь… Тут они, может, правы. Но… Глянь-ка!.. Работу на деревне не каждый найдет, вот молодые и уезжают. Зато потом… Зачем же им уезжать, коль в леспромхозе каждому место найдется? Опять же заработок… А зверь?.. А что зверь?.. Много ли его было и раньше?
Все, что ни делается, — все к лучшему… Приехал как-то к матери, уже учась в институте, и сказал, что работал в это лето сначала на пахоте, потом и на хлебоуборке. Благо, в институте разрешили… Деньги, короче, есть. Но мало… «А мне и «москвичку» хочется купить, и клетчатый пиджак. Да и туфли не мешало бы приобрести…» Мать выслушала, сказала:
— Стало быть, денег не хватает на одежду, и ты хочешь подработать?..
— Нет, — сказал он. — Через день я должен быть в институте.
Но мать словно бы не услышала:
— А коль так… Иди на сплав, там люди во всякую пору нужны, по зиме штабеля леса ставят на берегу, чтоб значит, с первой водой… — Он сник, и она заметила это и спросила: — Ты чего?.. — Но он не ответил, понял, что денег она не даст. — А зачем тебе новый пиджак?.. Иль худо в куртке?.. Слава богу, в локтях цело, и борта не обносились еще…
Он мог бы сказать, что и ему неохота отставать от моды, многие ребята в институте уже давно имеют клетчатые пиджаки, и ходят на танцы, и дружат с девушками, а ему и выйти не в чем, и он целыми вечерами сидит один, и скучно ему, и досадно… Но он не сказал об этом, не успел… Мать заговорила о хозяйстве, о том, что старая корова стала давать мало молока, видать, придется зарезать ее или же обменять в колхозе на бычка, а потом добавила:
— Все, что ни делается, —