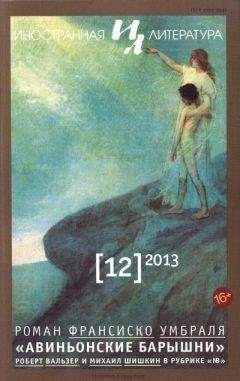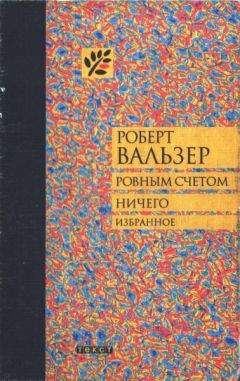Флер Йегги
Счастливые несчастливые годы
Мне было четырнадцать, когда я жила и училась в пансионе, в кантоне Аппенцелль. Когда-то в этих местах прогуливался писатель Роберт Вальзер — недалеко от нашего пансиона, в Херизау, находится психиатрическая лечебница, в стенах которой он провел много лет. Он умер в снегу. На фотографиях видны следы и углубление, оставленное его телом в сугробе. Мы, воспитанницы, никогда не слышали о таком писателе. О нем не знала даже наша учительница литературы. Иногда я думаю: хорошо, наверное, умереть вот так, после прогулки, лечь в естественную гробницу, в аппенцелльский снег, после тридцати лет лечения в Херизау. Жаль, что мы не знали про Вальзера, мы бы нарвали для него цветов. Даже Кант, незадолго до смерти, растрогался, когда какая-то незнакомая дама преподнесла ему розу. В Аппенцелле так и тянет прогуляться. Если поглядеть на небольшие окна, с выкрашенными белым рамами, с ярко-алыми, пышными цветами на подоконниках, можно подумать, что за этими окнами — влажный тропический лес, буйная растительность, которой не дают вырваться на волю, кажется, будто там, внутри, тихо вызревает что-то мрачное, может быть, больное. Это болезнь, принявшая облик счастливой Аркадии. Кажется, будто там царит покой и безмятежность смерти, и при этом чисто и светло. Белоснежно-цветочное ликование. А снаружи — зовущий ландшафт, и это не мираж, это Zwang, как говорили у нас в пансионе, — непреложность.
Меня учили французскому, немецкому и истории культуры. Но училась я плохо. Из французской литературы помню только Бодлера. Каждое утро я вставала в пять часов и шла гулять, поднималась вверх по склону и видела по ту сторону горы, далеко внизу, изогнутую полоску воды. Это было Боденское озеро. Я смотрела на горизонт и на озеро, не подозревая, что на острове посреди этого озера находится другой пансион, в котором мне еще предстоит учиться. Потом съедала яблоко и шла дальше. Я искала одиночества и, быть может, ощущения полноты жизни. Но зависть к окружающему миру мешала мне.
Это произошло днем, во время обеда. Мы все уже сидели за столом. В пансион прибыла новенькая. Ей было пятнадцать, у нее были темные волосы, прямые и блестящие, точно спицы. Орлиный нос. Если она смеялась — а смеялась она редко, — было видно, что у нее остренькие зубки. Красивый, чистый лоб: казалось, на нем проступают мысли и их можно потрогать, там словно бы запечатлелись талант, ум и обаяние, унаследованные от нескольких поколений предков. Она ни с кем не разговаривала. Надменное каменное изваяние — вот какое у меня создалось впечатление. Быть может, именно поэтому мне захотелось завоевать ее. Она не располагала к себе. Более того: казалось, ей противно находиться среди людей. Увидев ее, я первым делом подумала: как же мне далеко до нее! Когда мы встали из-за стола, я подошла к ней и сказала: «Bonjour». — «Bonjour», — быстро ответила она. Я представилась, назвав сначала фамилию, потом имя, как новобранец на перекличке, она представилась тоже, и на этом разговор как будто закончился. Она вышла из столовой, оставив меня с другими весело болтавшими девочками. Одна из них, испанка, стала мне оживленно что-то рассказывать, но я ее не слышала. До меня долетал лишь разноязыкий гомон. Затем новенькая исчезла на весь день, но вечером пунктуально явилась на ужин и, как положено, встала позади своего стула. Неподвижная, словно окутанная покрывалом. По знаку начальницы все мы уселись за стол, и после нескольких секунд тишины снова послышался гомон. На следующий день она первая поздоровалась со мной.
В пансионе каждая воспитанница, если она наделена хоть малой толикой тщеславия, должна создать свой образ, придумать не похожую ни на кого манеру говорить, походку, взгляд: начинается своего рода двойная жизнь. Когда я увидела задание по каллиграфии, выполненное новенькой, то замерла от изумления. Все мы писали почти одинаково, неустоявшимся детским почерком, выводя округлую, широкую букву «о». У нее почерк был вполне взрослый. (Двадцать лет спустя я увидела нечто похожее: это была дарственная надпись на книге Пьера-Жана Жува «Кирие».) Я, разумеется, не вытаращилась на нее, а притворилась, будто нисколько не удивлена. Но стала потихоньку от всех работать над почерком. Еще и по сю пору я пишу, как писала Фредерика, и люди говорят, что у меня красивый, необычный почерк. Они не знают, скольких усилий мне это стоило. Я плохо училась в то время, да, собственно, и всегда, потому что желания учиться у меня не было. Из газет я вырезала репродукции немецких экспрессионистов и сообщения уголовной хроники. А потом вклеивала их в тетрадку для Фредерики. Так я давала ей понять, что интересуюсь искусством. И Фредерика удостоила меня чести прохаживаться с нею по коридору, брала с собой на прогулки. Наверно, излишне говорить, что она стала первой ученицей. Она уже все знала, как будто получила эти знания в наследство. В ней было нечто такое, чего не было в других, поэтому мне оставалось лишь рассматривать ее талантливость как дар предков. Послушать хотя бы, как она в классе декламирует французскую поэзию: все эти поэты словно вселились в нее, и она дала им приют у себя в душе. Мы же, возможно, были еще слишком неискушенны. А неискушенность в чем-то сродни неотесанности, она располагает к педантизму и к аффектации, — когда мы принимались декламировать стихи, казалось, будто мы напялили форму французских зуавов.
Мы съехались в пансион из разных стран, особенно много было американок и голландок. Была одна негритянка, как теперь говорят, цветная, — курчавая, похожая на куклу, мы в Аппенцелле любовались ею. Ее привез к нам отец, президент какой-то африканской республики. Для торжественной встречи отобрали девочек разных национальностей, и все они выстроились в шеренгу перед входом в Бауслер-институт. Там была рыжая бельгийка, белокурая шведка, итальянка, американка из Бостона, каждая с флагом своей страны, — мы аплодировали и вместе действительно представляли весь мир. Я стояла в третьем ряду с краю, рядом с Фредерикой. На мне был плащ с поднятым капюшоном. А впереди, точно по центру — если бы президент выстрелил из лука, стрела попала бы ей в сердце — стояла начальница пансиона, фрау Хофштеттер, рослая, плотного сложения, исполненная достоинства, с улыбкой, врезанной в жирные складки щек. Рядом с ней — муж, господин Хофштеттер, маленький, худощавый, застенчивый. Супруги держали швейцарский флаг. Среди нас, воспитанниц, африканская девочка стала самым заметным лицом. Было холодно, негритянка приехала в широком, расклешенном голубом пальто с синим бархатным воротником. Должна признаться, визит чернокожего президента произвел в Бауслер-институте большой эффект. Глава африканского государства оказал семье Хофштеттер высокое доверие. Однако некоторым воспитанницам-швейцаркам не понравилось, что президенту устроили такой торжественный прием. Ко всем родителям, кто бы они ни были, отношение должно быть одинаковое, говорили эти девочки. Следует заметить, что в любом пансионе всегда найдется юная особа, склонная к бунтарству. Это проявляется в тот момент, когда начинают формироваться политические взгляды и складывается то, что можно назвать представлением о мире. Фредерика держала швейцарский флаг, но казалось, что она держит столб. Самая маленькая воспитанница сделала реверанс и преподнесла президенту букет полевых цветов. Насколько я помню, у негритянки в пансионе не появилось ни одной подруги. Мы часто видели, как начальница выходит с ней на прогулку, держа ее за руку, — сама фрау Хофштеттер, собственной персоной. Боялась, наверное, что мы ее съедим. Или что она выпачкается. И еще она никогда не играла с нами в теннис.
Фредерика с каждым днем все больше отдалялась от меня. Чтобы повидаться, я сама заходила к ней в комнату в другом здании. Ее поместили со старшеклассницами, а я из-за разницы в несколько месяцев угодила в корпус для маленьких. Со мной в комнате спала немка — я даже не помню ее имени, настолько бледной личностью она была, — которая подарила мне книгу о немецких экспрессионистах. В шкафу у Фредерики царил безукоризненный порядок, а я не умела сложить пуловер аккуратно и притом так, чтобы он занимал минимум места, за аккуратность в пансионе ставили отметки, и у меня они всегда были плохие. Я научилась аккуратности от нее. Мы спали в разных зданиях, и казалось, что между нами — целое поколение. Однажды я нашла в своем почтовом ящике любовную записку; одна десятилетняя девочка просила меня взять ее под покровительство, хотела, чтобы мы ходили парой. Я вспылила и ответила отказом, ответила грубо, и до сих пор жалею об этом.
Впрочем, я пожалела уже тогда, после того, как написала ей, что мне не нужна младшая сестренка и я не беру под покровительство малышей. Я стала грубой и резкой, потому что Фредерика ускользала от меня, а я желала во что бы то ни стало завоевать ее: было бы унизительно проиграть в этой борьбе. Я разглядела мою маленькую поклонницу, когда было уже поздно, когда я уже успела оскорбить ее. Такая славненькая, милая девочка. Я лишилась рабыни, не сообразив, что она могла бы приносить мне пользу.