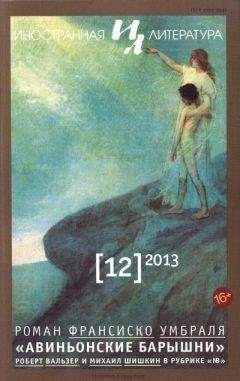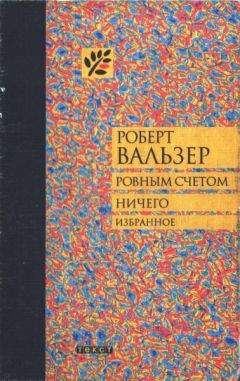С этого дня малышка больше не заговаривала со мной, даже не здоровалась. По этой истории можно судить, что я тогда еще не успела научиться дипломатии, мне все еще казалось, будто лучший способ добиться желаемого — идти напрямик, в то время как на самом деле надо выказывать равнодушие, не афишировать своих намерений, соблюдать дистанцию, — только это и приблизит нас к цели, ибо не мы поражаем цель, а она нас.
Вот в отношениях с Фредерикой я применила особую тактику. У меня был уже солидный опыт пансионской жизни. Ведь я с восьми лет воспитывалась в интернатах. Откровенные разговоры с подругами завязываются в общей спальне, за умыванием, во время спортивных занятий. Вокруг моей первой кровати в пансионе висели белые занавески, она была накрыта белым пикейным одеялом. Даже маленький комодик возле кровати был белым. Получалась как бы маленькая комнатка, а за нею выстроились в ряд еще двенадцать. Такая вот близость всех со всеми, пусть и целомудренная. Слышно, как дышат на других кроватях. Моя соседка по комнате в Бауслер-институте была немка, добродушная, но злая, — так бывает у глупых девушек. В белоснежном белье ее тело выглядело довольно красивым. У нее была уже почти оформившаяся фигура взрослой женщины, но я чувствовала необъяснимое отвращение, если случайно дотрагивалась до нее. Может быть, именно поэтому я вставала так рано и отправлялась на прогулку. К одиннадцати часам, во время уроков, меня начинало клонить в сон. Я смотрела в окно, оттуда на меня сонным взглядом смотрело мое отражение, и я засыпала.
Мы с Фредерикой не только ночевали в разных корпусах, но и днем учились в разных классных комнатах. В столовой мы тоже сидели не рядом, но я могла ее видеть. И наконец, однажды Фредерика взглянула на меня. Быть может, я тоже заинтересовала ее. Меня привлекали немецкие экспрессионисты, притягивала уголовная хроника — часть взрослой жизни, которой я еще не испытала. Я рассказала ей, как в десять лет оскорбила мать-настоятельницу, обозвав ее шлюхой. До чего же простое слово. Когда я рассказывала эту историю Фредерике, мне стало даже стыдно, что я такая простенькая. Меня выгнали из школы. «Проси прощения!» — сказали мне, но я не стала извиняться. Фредерика рассмеялась. Она была настолько любезна, что спросила, зачем я это сделала. И я попыталась описать ей, какой я была в восемь лет. В то время я играла в мяч с мальчишками, и вдруг меня поместили в мрачный монастырский пансион. В конце мрачного коридора находилась капелла. Слева по коридору — дверь. За дверью — бледная, хрупкая мать-настоятельница: она благоволила ко мне. Гладила меня своими тоненькими, нежными ручками, я сидела с ней рядом, словно с подругой. Однажды она исчезла. И ее место заняла дородная швейцарка из кантона Ури. Как известно, новая власть всегда ненавидит любимцев прежней власти. В этом смысле нет разницы между монастырским пансионом и гаремом.
Фредерика сказала, что я — эстет. Это слово я слышала впервые, но оно сразу обрело для меня смысл. Я поняла, что ее почерк был почерком эстета. Ее презрение ко всему тоже обличало в ней эстета. Фредерика скрывала это презрение под маской послушания, неукоснительного соблюдения дисциплины, была неизменно почтительна. А я еще не умела притворяться. Я была почтительна с начальницей, фрау Хофштеттер, потому что боялась ее. С готовностью ей кланялась. А вот Фредерике не приходилось никому кланяться, потому что ее манера изъявлять почтение к другим вызывала почтение к ней самой. И мне случалось наблюдать это. Однажды, быть может устав обхаживать Фредерику, я согласилась на свидание с мальчиком, воспитанником находившегося неподалеку пансиона Розенберг. Свидание было недолгим. Но нас заметили. Фрау Хофштеттер вызвала меня к себе в кабинет. Она была огромная, как шкаф, в синем костюме и белой блузке с брошью у воротника. Она пригрозила наказать меня. Я сказала, что это просто был мой родственник. Да, верно, сказала начальница, и мать этого родственника написала мне письмо, прося проследить, чтобы вы не виделись с ним. Я притворилась, что плачу. Начальницу это растрогало. Куда подевались воля, самообладание, выдержка, которые были у меня в восемь лет? В восемь лет я не стала бы думать о другой девочке. Для меня все они были одинаковые, противные, ничтожные. Даже и сейчас я не решусь сказать, что была влюблена в Фредерику, хотя эти слова очень легко произнести.
В тот день я испугалась, что меня исключат. На следующее утро за завтраком все было такое аппетитное, ароматное, и я обмакнула в чашку ломтик хлеба. Начальница ударила меня по руке, в которой я держала хлеб, и велела встать. В восемь лет я взяла бы чашку и выплеснула кофе в лицо начальнице. Разве можно было меня оскорблять? Фредерика ела, прижав локти к бокам. Ни разу она не положила локоть на стол. Быть может, ее презрение распространялось и на еду? Ведь она была само совершенство… На прогулке — теперь мы каждый день гуляли вдвоем — она иногда шла впереди, а я смотрела на нее. Все в ней было безукоризненно, гармонично. Порой она обнимала меня за плечи, и казалось, что это продлится вечность, мы так и будем идти вдвоем среди рощ, по горным кручам, по тропинкам, une amitié amoureuse[1], как говорят французы. Она дала понять, что у нее был мужчина. Мне на эту тему сказать было нечего, разве что упомянуть моего родственника. Да еще гувернантку. Но это было не то же самое. Гувернантка, монахиня, подруга по пансиону — явления одного порядка. Фредерика намекнула, что история с этим мужчиной завершилась. Вечером, вернувшись в комнату к соседке-немке, я погрузилась в раздумья. Возможно, мы хорошо знаем женщин, недаром же мы провели лучшие годы в монастырских пансионах. Но мир разделен надвое, есть мир мужчин и мир женщин, и когда мы выйдем из этих стен, то познакомимся с миром мужчин. Найдем ли мы там такую же остроту переживаний? Сомнительно, думала я, чтобы завоевать одного из них было так же трудно, как Фредерику.
Несмотря на ежедневные прогулки с Фредерикой, ее откровенность, ее ласковый тон, я чувствовала, что еще не завоевала ее. Я как бы мерилась с ней силой. Я должна была заставить ее восхищаться мной. Фредерика не снисходила до постоянного общения с кем бы то ни было, иногда она уходила и от меня, предпочитая оставаться в одиночестве, а я скучала. Читать было неохота, я смотрелась в зеркало, расчесывала волосы, сто взмахов щеткой, делала вид, будто люблю природу. А Фредерика, как я заметила, никогда не смотрелась в зеркало. Хорошо было вместе любить деревья, горы, тишину, литературу. Мне казалось, что жизнь моя тянется слишком долго. Я уже семь лет провела в интернате, а жизнь все еще не кончалась. Когда сидишь в четырех стенах, воображение рисует причудливый внешний мир, а когда выходишь наружу, иногда хочется снова услышать звон пансионского колокольчика.
Удивительно, что во всех пансионах, где я жила, почти не было мужчин — ни в самой школе, ни в окрестностях. А если и были, то либо старики, либо сумасшедшие, либо сторожа. В кантоне Аппенцелль я помню только дряхлых старцев, калек, а еще — кондитерскую и фонтан. Если хочешь развеяться, можно пойти в кондитерскую. Там никого не было, но по улице всегда проходил какой-нибудь старик. Я долгое время думала, что те, кто вырос в пансионе — как Фредерика и я, — потом, в старости, растеряв все надежды, смогут довольствоваться очень малым. Звенит колокольчик — мы просыпаемся. Опять звенит колокольчик — мы ложимся спать. Забираемся в спальни, жизнь идет, а мы наблюдаем за ней из окна, узнаем о ней из книг, догадываемся по сменам времен года, впитываем ее в себя на прогулках. И всегда она светит нам отраженным светом, который словно примерзает к подоконникам. Порой перед глазами четко обозначается высокая фигура, похожая на мраморную статую: это Фредерика прошла через нашу жизнь — и, быть может, тянет вернуться обратно, но нам уже ничего не нужно. Мы уже вообразили себе мир. А что еще можно вообразить, кроме разве что собственной смерти? Звенит колокольчик — и все кончено.
Но вернемся к нашей незатейливой истории. Фредерика описывала мне, какого цвета бывает листва, все наши с ней разговоры в моих воспоминаниях овеяны дыханием свежести. Учительница французской литературы смотрела на нее с восхищением, наверно, видела в ней будущую писательницу, вроде сестер Бронте. А меня терпеть не могла. Ей самой хотелось ходить на прогулки с Фредерикой. Это была некрасивая женщина, на знавшая ничего, кроме французской литературы, которой она была предана безоглядно. Когда она что-то объясняла нам, я зевала. Как уже было сказано, я находила, что жизнь моя тянется чересчур долго. Сама по себе литература не увлекала меня, но надо было подготовиться к беседам с Фредерикой. Я вычитала у Новалиса несколько изречений о самоубийстве и о совершенстве.
«Да что с тобой? О чем это ты думаешь?» — спросила она. Наконец-то спросила, о чем я думаю. Очко в мою пользу. А думала я всегда об одном: как пробраться во внешний мир. Но никому не говорила об этом. «Так, ни о чем», — ответила я Фредерике. Несколько раз, когда мы беседовали, я думала о ней, о ее красоте, о ее уме, о совершенстве, которое в ней таилось. Спустя столько лет я все еще вижу ее лицо: я искала его в других женщинах, но так и не нашла. Она была воплощением цельности. Это даже вызывало тревогу. Я ни разу не сказала ей об этом, не призналась, что восхищаюсь ею: с первого дня, несмотря на ее превосходство, я почувствовала, что до того, как нас свяжет дружба, мы должны пройти через несколько предварительных стадий. Как в сражении. И мне предстояло завоевать ее. Все было так серьезно и так напряженно, я тщательно взвешивала слова, выверяла тон, манеру, тут был необходим тренированный ум. Я спрашивала себя: а что, если через несколько недель мы, вместо того чтобы разговаривать, начнем обниматься? Но нет, это невозможно было себе представить. Мы даже ни разу не подали друг другу руки. Да нам бы это показалось смешным. Другие девочки ходили по тропинкам, держась за руки, смеясь, «подружка с подружкой», любимая с любимой. Но в нас с ней был какой-то фанатизм, который препятствовал физическим проявлениям чувства.