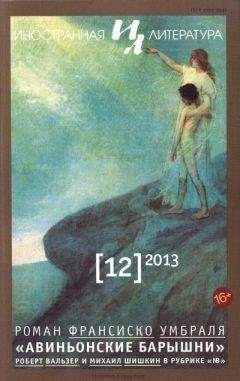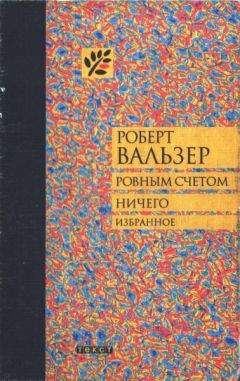Фредерика говорила о своих путешествиях так, словно речь шла о другом человеке. В кондитерской стало темнее — будто белый снег заволакивал землю темным покрывалом. Снаружи сгущались зимние сумерки. Снаружи был ледяной воздух, который не отставал от нас до самого дома. Нашим домом был пансион.
Каждый вечер мы с моей соседкой встречались в умывальной. Однажды, когда она уронила гребенку, я по-дружески, не мешкая наклонилась и подобрала. Она причесывалась на ночь так тщательно, словно собиралась на бал. А может быть, по ночам она действительно танцевала на балу — во сне. Показывая всем свои ямочки на щеках. Один зуб у нее рос криво и немного выпирал. У нее было платье из розовой тафты, которое она боялась помять. Иногда я была настолько убеждена, будто она собирается на бал, что на спинке стула, стоявшего у изножья кровати, куда она складывала белье, мне виделось это розовое платье. Наши комнаты проверяли крайне редко, в исключительных случаях. Осмотр проводили по утрам, открывали все шкафы, наше белье и пуловеры, сложенные на полках, должны были выглядеть как сплошная, ровная стена. Мы должны были складывать нашу одежду ловко и аккуратно, как это делают на Востоке. Недавно я побывала на спектакле театра Но и потом зашла за кулисы поздороваться с одним актером. Он укладывал чемодан или, вернее, сверток. И складывал одежду в точности так, как учили нас в пансионе. С такой же тщательностью, словно ткань была чем-то священным. Если бы я согласилась взять под покровительство малышку, которая написала мне письмо, она занялась бы наведением порядка в моем шкафу. Сочла бы за честь складывать мои пуловеры. Мы все были фетишистками.
Если бы я подарила цветок Марион — так звали малышку, — она засушила бы его в книге, чтобы сохранить навечно. Все мы, купив какую-нибудь старую книгу, находили там засохшие лепестки, которые от одного прикосновения рассыпались в прах. Выцветшие лепестки. Могильные цветы. Ее любовь ко мне засохла в одно мгновение, не оставив и щепотки праха, она перестала со мной здороваться. Я разорвала трогательную записочку Марион сразу же, как прочла, — с редкими письмами от отца и от матери я поступала так же. А моя соседка по комнате хранила все письма в деревянной немецкой шкатулке с инкрустациями.
Она перечитывала эти письма, томно раскинувшись на кровати. От шкатулки веяло немецкими духами, достаточно крепкими, но она еще нюхала их, откупорив флакон. На шкатулке был золоченый замочек с крохотным ключиком. Немка открывала эту жуткую вещичку невероятно бережно, чуть ли не благоговейно.
А мне писали мало. Почту нам раздавали за столом. Редко получать письма было не очень приятно. И я стала писать отцу пустые, формальные письма, в которых ничего не рассказывала о себе, — чтобы получить ответ. Надеюсь, ты здоров, я тоже здорова. Он отвечал мне очень быстро, всякий раз наклеивал на конверт марки «Pro Juventute»[2]. И удивлялся, почему я пишу ему так часто. Его письма, как и мои, были короткими. Каждый месяц я находила в одном из писем банкноту, l’argent de poche[3]. Я писала ему потому, что это был единственный человек, исполнявший мои желания, хотя юридически всем в моей жизни распоряжалась мать. Ее указания приходили из Бразилии. Моей соседкой по комнате должна быть немка, потому что я должна научиться говорить по-немецки. И я разговаривала с немкой, она делала мне подарки — шоколадные конфеты, которые сама ела все время, американскую жевательную резинку и книги по искусству. На немецком. С репродукциями картин немецких художников. Из объединения «Синий всадник». Даже белье у нее было немецкое. Однако сейчас я не могу отыскать в моей умственной картотеке ее имя; девушки из пансиона, оставшиеся у меня в памяти, не всегда откликаются на имена. Кто она была? Для меня — попросту никто, хотя ее лицо и фигуру я прекрасно помню до сих пор. Возможно, люди, которые мало для нас значили, вспоминаются нам назло. Их черты врезаются в память гораздо глубже, нежели черты тех, кого мы ценили. У нас в голове череда погребальных ниш. Кто был для нас никем, тут же являются на зов, иногда эти ненасытные создания, точно хищные птицы, набрасываются на лица любимых нами. В нишах собрано столько лиц, поживы много. Сейчас, когда я пишу, немецкая девушка, словно в полицейском участке, сообщает мне свои данные. Как ее имя? Имя стерлось. Но забыть имя еще недостаточно, чтобы забыть человека. Все осталось там, в погребальных нишах.
Мне суждено было провести в пансионе лучшие годы. С восьми до семнадцати. Сначала меня поручили заботам пожилой дамы, одной из моих бабушек. Но однажды она решила, что больше не станет терпеть мое общество: она утверждала, будто я грубая и неуправляемая. Однако я была поразительно, неправдоподобно похожа на ее портрет, висевший в столовой. Вот потому-то она и убрала меня с глаз долой. Сейчас я начинаю походить на нее. Она тоже занимает одну из ниш. Смотрит на меня оттуда своими васильковыми глазами. По ее милости я побывала во многих пансионах, перевидала множество начальниц, почтенных монахинь, настоятельниц, помощниц настоятельницы по дисциплине, но ни одна из них не вызывала у меня такого трепета, как бабушка. Всегда, даже целуя им руки, я чувствовала, что могу перехитрить их, что их власть надо мной лишь временная.
Так бывало в Италии, где я жила в пансионе у французских монахинь. Каждый вечер, перед тем как пойти спать, по обыкновению, в общую спальню, я вместе с другими девочками поднималась наверх по узкой лестнице. Наверху нас ждала помощница настоятельницы по дисциплине. Каждый вечер, стоя под тусклой лампочкой, почти не рассеивавшей тьму на лестнице, у порога слабо освещенной спальни, она протягивала нам руку. А мы выстраивались в очередь и одна за другой целовали ей руку. Потом шли в умывальную — и спать, в тихий дормиторий. Простыни казались жесткими, негнущимися. За окном, если ночь была лунная и звездная, расстилалась пустыня, какие иногда можно увидеть во сне.
Нас научили делать реверанс, если не ошибаюсь, он состоял из четырех движений, — после чего мы оказывались лицом к лицу с ее преподобием матерью настоятельницей. Не знаю, какова была на вкус кожа почтенной помощницы по дисциплине, но ритуал смирения я выполняла исправно, как автомат, я находила это совершенно естественным, иногда я на секунду останавливалась, чтобы поглядеть со стороны на вереницу моих подружек, на всю эту церемонию. Я держала руку монахини большим и указательным пальцами, но не прикасалась к ней губами, ибо физическая демонстрация единения мне претила.
Глаза у помощницы по дисциплине были лазурные, как альпийские озера на заре, детски наивные, но словно бы источавшие яд. Казалось, веки выкрашены свинцовыми белилами — так явно ощущалось в ней вырождение, должно быть, бесчисленные поколения нищих целовали руки ее предков, пока все не кончилось с появлением гильотины. В разрезе глаз виделось что-то восточное, на голове было покрывало, а покрывало к лицу всем женщинам, даже очень немолодым. Оно придает величие и таинственность. Но оно лжет. В фигуре монахини, в ее движениях была какая-то вялая ущербность, то, что определяется словом faisandé[4]. Эта ее близость к праху и тлену, а также ее сливочного цвета одеяние и суровость, подобающая сану, создавали впечатление, что перед тобой — владычица гробниц. Голос у нее временами делался жалобный и совсем юный — такими мы представляем себе голоса кастратов.
Там, у французских монахинь, я встретилась с вопиющим классовым неравенством. Помимо наставниц там еще были монахини в темных рясах, простолюдинки, не внесшие вклада, они делали всю тяжелую работу, и, обращаясь к ним, полагалось говорить не «матушка», а «сестра». А мы, воспитанницы, бывали порой высокомерными. Преподобные матушки смотрели на них сверху вниз, но при этом сладко улыбались. И мы знали, у кого из нас бедные родители, а кто — сирота. Одна воспитанница содержалась в пансионе бесплатно, она лебезила перед помощницей по дисциплине, как могла, старалась ей угодить. По-видимому, она шпионила за нами. Мы не обижали ее, она происходила из хорошей, но обедневшей семьи, глаза у нее были как желто-голубой шелк. Она была блондинкой, родом с юга; этот очаровательный эльф не радовал нас своим присутствием, ведь она была шпионкой. Как мы считали, она делала это от нужды. Мы могли бы дать ей гораздо больше денег, чем давали монахини, но для нее важно было выслужиться перед теми, в чьих руках была власть. Такими рождаются. Мы пробовали приручить ее, но она этого даже не замечала. Ростом она не вышла, икры у нее были прямо над щиколотками, и фигура казалась приземистой. Сидя она выглядела чудесно, яркий румянец и белокурые волосы очень шли к маленькому, словно из бисквитного фарфора, личику. Она находилась в пансионе гораздо дольше положенного, ее держали из милости. А ей уже стукнуло восемнадцать: незавидное положение. Нам казалось, что быть бедной — это профессия, и она была профессионалом высокого класса.