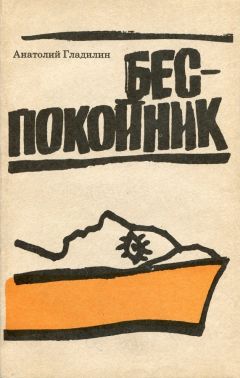Много прошло времени, пока я поняла, что все провалилось окончательно.
Тут я убедилась, что меня знает вся Москва. Все мои похождения всплыли. Кто-то назвал меня прямо в глаза «драной кошкой».
Мои поклонники вдруг стали откровенны и грубы. Я никогда не собиралась быть проституткой, и мне пришлось рвать старые знакомства.
Скоро я оказалась на мели и без денег. Работы не находилось, уезжать из Москвы я не могла.
Меня могло спасти срочное замужество. Увы, теперь от меня стали бегать.
* * *
И вот я опять в знакомом дворе у помойки. Увы, старуха давно умерла, и некому подкармливать меня сыром и говорить нежные слова.
Да, сейчас я на мели. Но не надо отчаиваться. Я хороша собой. Я еще буду нежиться у окна, ездить на заднем сиденье большой машины и есть в «Национале» цыплят табака.
Главное — быть целеустремленной и не разбрасываться на разные «трали-вали».
Но мерзкая погода. Идет снег. Тоскливо и сумрачно. А на помойке ничего нет. Все пищевые отбросы собирают теперь на корм для свиней.
А нам, кошкам, что делать?
Сырость проникает сквозь мою потертую шкурку. Светят огни в доме. Сейчас бы погреться у батареи под фикусом.
Поздний вечер. Снег заметает все следы. Куда податься?
Но, чу! Кто-то идет!
Я отряхиваюсь, отрываюсь от помойки и начинаю умываться лапкой.
Появляется кот. У него усталые ищущие глаза. Кот паршивый, из тех, кто мечтает о случайной встрече на улице. Но, может быть, это он?
Я умываюсь и не гляжу на него. Я словно вижу себя со стороны: кошечка с весьма милой мордочкой, правда, круги под глазами (это он потом заметит, но все равно — сойдет). Он, наверно, тут же придумает мне какую-нибудь личную трагедию. Опять же, мне плюс — значит, у меня высокая душа.
Кот делает вид, что меня не замечает, но хвост у него трубой.
1961Эта маленькая повесть была написана в 1957 году в г. Новороссийске. Потом я несколько раз к ней возвращался, переделывая, в основном сокращая. Все мои попытки опубликовать ее в советских изданиях были безрезультатны.
После моей эмиграции «Беспокойник» был напечатан в двух немецких изданиях, но переводчики потеряли русский текст. Мне пришлось восстанавливать оригинал с немецкого, и в процессе работы я старался избежать соблазна «осовременить» рукопись.
Думаю, «Беспокойник» представляет собой интерес как литературный, так и, можно сказать, «исторический» — это первый «самиздат» моего литературного поколения. Ведь в 1957 году мои будущие коллеги еще только начинали свою писательскую деятельность.
А. ГладилинЯ умер седьмого декабря 1956 года. В семь часов утра я почувствовал резкую боль в сердце и сразу же понял, что мое сердце останавливается. Потом был провал в темноту и пустоту. Прошла целая вечность. Постепенно я опять начал видеть и слышать. Я мог видеть — наверно, мне недостаточно крепко закрыли глаза. Когда мне стало ясно, что ко мне опять вернулось сознание, у меня вдруг появилась мысль — может, я жив? Но я не обрадовался, не рассердился. Мысль появилась и ушла, нисколько не взволновав меня. Нет, решил я, я действительно мертв. Я ничего не чувствовал, и ничего не шевелилось во мне. Меня могли резать, жечь, рубить на куски — я был трупом. Но мой мозг продолжал работать. Тут я подумал, что идеалисты правы: есть высший разум, есть моя бессмертная душа. В любой момент сюда должен спланировать какой-нибудь ангел-командировочный, на опереточных крыльях и показать мне путь в рай. Это, наверно, забавная вещь — увидеть свою душу! Какого она хоть цвета? Однако райский посланник не спешил. «Итак, — сказал я самому себе, — материалисты не ошиблись, души нет». Я просто по-другому представлял себе смерть. И все описания смерти, которые дает классическая литература, — наглое вранье. Оказывается, мозг не сразу умирает, человек продолжает думать, видеть и слышать. Наверняка мозг отключится через какое-то время, но пока я вижу и слышу. Только живым это неведомо, живые, когда они умрут, узнают то же самое, что и я, но и они не смогут об этом никому рассказать. Мертвые не рассказывают.
Я лежал на кровати. На этой кровати я спал последние десять лет. В эту постель я лег вчера последний раз в жизни. Моя жена сидела рядом со мной. С момента моей смерти, наверно, прошло несколько часов, потому что она уже не плакала. Она молчала и куталась в теплый платок. Я еще раз убедился в том, что я мертв, ведь по отношению к жене я не ощущал ни грусти, ни сожаления. Я был как каменный, а камень ко всему равнодушен.
Судя по бликам на обоях, день был солнечный, и, очевидно, это придавало моему лицу розовый оттенок, потому что моя жена вдруг прошептала: «Он не ледяной, он совсем не холодный, он теплый. Он словно дышит и лежит как живой». И она громко заплакала. Сразу из соседней комнаты вышло несколько моих товарищей по работе. Лица у них были скорбные, глаза покрасневшие. Они начали хором утешать мою жену, но, так как все утешения были напрасны, раздавалось лишь неясное бормотание: «Ну, что делать, Нина Владимировна, перестаньте, Нина Владимировна, мы все должны умереть... Может, вы пойдете в соседнюю комнату к детям?» Наконец ее увели. Комната опустела. Перед тем как выйти последним, Палиевский, мой бывший зам, с шумом втянул носом воздух.
Внезапно в коридоре послышались какие-то громкие голоса. Из обрывков речи мне стало ясно, что пришли работники похоронного бюро. Вскоре в комнату ввалились двое отвратительных жалких пьянчужек. Они надели белые халаты, достали маленький таз и попросили никого не входить. Чего они только со мной не делали! Раньше я думал, что с покойниками обращаются все же с уважением. А эти еще ворчали, дескать, я слишком тяжелый. И конечно же, они поставили свой диагноз — третий инфаркт, хотя я умер после второго. Когда они меня одевали, один из них сказал напарнику: «Посмотри, ты ему оцарапал щеку». — «Ничего, до свадьбы заживет, наложим пластырь», — и я услышал короткий тихий смешок. Потом они положили меня в гроб. Вошел Палиевский.
— Ну как, все в порядке?
— В порядке. Год полежит, с гарантией.
Палиевский дал им сто рублей[1]. (Если бы я был жив, я бы скорее умер, но не платил бы таких денег.) И пьянчуги тут же смылись, сославшись на то, что их ждут другие клиенты.
Мои сослуживцы уехали на работу, чтобы заняться организацией похорон, а жизнь вокруг меня — если это можно было назвать жизнью — продолжалась. Рядом с моим гробом положили несколько телеграмм с соболезнованиями. Одна из них — ее прочли тихо — была от нашего замминистра. Все были тронуты. Но мне показалось, что эту телеграмму составлял не замминистра, а его секретарша Верочка, с которой у меня когда-то были хорошие отношения. Наше главное управление тоже направило письмо с выражением соболезнования. Масса подписей, в том числе многих высоких ответственных товарищей. Я, конечно, знал, что некоторых из них сейчас нет в Москве, они в командировках, но так принято, должны быть все подписи.
У кого-то появилась идея: отправить младших детей к нашим знакомым. И очень кстати, так как вскоре квартира превратилась черт знает во что — начали собираться мои родственники. Сколько же их оказалось! Да еще старых знакомых. Мне лично, в принципе, должно было быть приятно это массовое проявление соболезнования, но как раз мне было все равно — ни тепло, ни холодно. Однако для моей жены и старшей дочери Ирочки это выливалось в дополнительную муку. В конце концов сколько слез может быть у человека? Как только жена и дочь успокаивались, врывалась какая-нибудь моя очередная родственница, седьмая вода на киселе, и рыдала страшно. Получалось, вроде бы посторонние люди все в слезах, а у близких сухие глаза! Это же просто неприлично! Хочешь не хочешь — надо плакать. Тетка, выплакавшись рядом со вдовой, сразу же успокаивалась и отваливала, она честно выполнила свой долг. Но что было делать моей жене? Знакомых и родственников — огромное количество, и с каждым надо рыдать! Господи, вы лучше подумали бы о покойном, который был веселым человеком и не любил слез...
Вечером у моей жены и дочери уже не было сил плакать. Палиевский догадался отправить их в соседнюю комнату и сам стал принимать гостей. Палиевский всегда был надежным другом. А гости все еще шли. Появился наш знакомый по даче, на которого я был страшно зол: ведь именно по его совету и с его помощью мы провели последнее лето в такой страшной дыре, что я всю осень чертыхался. Сейчас он вместе со своей женой стоял у моего гроба. Они читали телеграммы. Он увидел телеграмму от замминистра и показал жене: вот смотри, какие у него были важные знакомые. Потом эта парочка стала рассказывать Палиевскому, как они недавно хоронили своего родственника. Они так долго и подробно описывали все бедному Палиевскому, что я уже хотел закричать: «Прекратите, в конце концов это мои похороны!» Но приходили и другие, кто был искренне опечален моей смертью. Пришла и Она, все еще молодая женщина, которую я когда-то любил. Нет, ее слезы не могли меня тронуть. Мне, покойнику, горе моей жены и моих детей было безразлично, ничто не могло меня задеть, я ничего не ощущал. Но мне было приятно знать, что она, именно она, все еще меня любит.