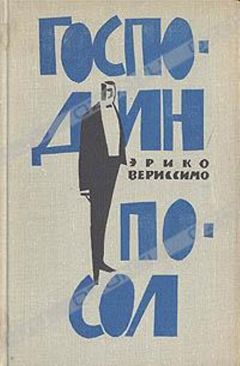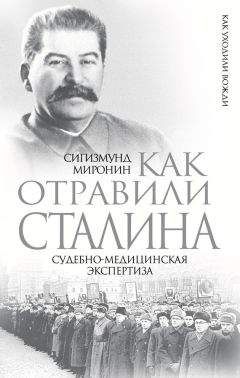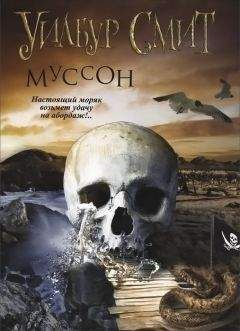Лейтенант с раздражением разорвал письмо и бросил клочки в корзину под столом.
Когда через несколько минут он в вестибюле подошел к ночному портье, чтобы отдать ключ от номера, то с удивлением заметил, что тот не улыбнулся ему, как обычно.
— Господин лейтенант! — воскликнул портье. Он держал в руке картонный листок. — Я вот смотрю… на вашу карточку… — Он говорил отрывисто, выпуская фразы, как пулеметные очереди разной продолжительности. — Вы родились… в год буйвола… весьма любопытно!
Лейтенант положил ключ на стойку и направился к двери, но старик остановил его:
— Один совет… вы позволите, господин лейтенант? Один совет… Завтра… для господина офицера неблагоприятный день лунного месяца… До полуночи… сегодня очень хороший. Но завтра… много опасностей, возможно, несчастий… возможно.
— Завтра, дед, я возвращаюсь к себе на родину, — пробормотал лейтенант, и тут же ему показалось, что он сказал неправду.
— Вам не следовало бы… неблагоприятный день… Вернитесь в отель… в полночь… лягте спокойно… ногами к югу… Очень спокойно… Завтра неблагоприятный день…
Лейтенант взглянул на портье. Он понимал, что астрологическое предсказание — вздор, и все-таки в душе принимал его.
— Хорошо… — буркнул он, чтобы закончить разговор. Он сунул руку в карман брюк, нашел монету в двадцать пять центов и торопливо положил ее на стойку, словно оплачивая совет, который был ему неприятен. Портье покосился на монету, но не поблагодарил.
Уже в дверях лейтенанту показалось, что у него на груди слова туземца вытатуированы, как веление рока.
До «Райской птички» идти было недалеко, но влажная духота улиц сразу утомила, и лейтенант хотел скорее очутиться в ресторане с кондиционированным воздухом, где дышать будет легче.
Он и его дама сидели за столиком в углу и в ожидании заказанных блюд пили мартини. Сегодня он испытывал легкое стеснение. До сих пор учительница всегда одевалась строго и просто и была настолько лишена кокетства, что он держался с ней как с коллегой, на равной ноге, а вернее, как с бесполым существом.
Он познакомился с ней несколько месяцев назад в деревне, которую войска правительства Юга только что отбили у противника. Его послали туда с отрядом, чтобы объяснить местным крестьянам новые порядки, при которых им теперь предстоит жить. Учительница должна была позаботиться об осиротевших детях, кроме того, ей предстояло быть переводчицей, так как она бегло говорила на туземном языке. Она вышла из джипа, одетая в зелено-оливковую форму, в посеревшей от пыли мужской шляпе. В зубах зажата сигарета. «Прямо какой-то сержант!» — подумал он тогда.
А сейчас перед ним была женщина — элегантное вечернее платье делало ее загар красивым. Она немного подкрасила губы. Впервые лейтенант заметил (и несколько удивился), что эта сорокалетняя учительница еще может нравиться. Черты ее лица чеканной строгостью напоминали, изображения на античных монетах. И только сейчас он увидел красоту этих синих, фиалковых глаз, которые так хорошо гармонировали с ее бронзово-каштановыми волосами.
Она вынула из сумочки сигарету и прикурила от пламени красной свечи на столе. И тут он тоже впервые обратил внимание на ее руки, выразительные, как человеческое лицо, сильные, но не грубые.
Она некоторое время смотрела на него молча, изучающе, и ему стало немного не по себе. Чтобы скрыть волнение, огляделся вокруг. Интерьер был выдержан в красных тонах (по азиатскому поверию — счастливый цвет), стены обтянуты алой парчой с вышитыми золотом пагодами и деревьями.
Багряный полумрак зала вызвал новые воспоминания о детстве — тот день, когда он побывал в политехническом музее одного из самых больших городов своей страны. Они спустились внутрь выполненного в натуральную величину макета угольной шахты, где было темно, совсем как в настоящей. Он вспомнил лицо матери в тусклом свете шахтерской лампочки. Во время спуска его охватило приятное чувство, в глубине которого прятался холодок страха, будто мороженое под слоем крема. И пока подъемник спускался, он взял мать за руку, черпая успокоение в ее ласковой прохладе. В «шахте» слышался записанный на пластинку голос экскурсовода — он объяснял, как работают автоматы, изображающие шахтеров, которые добывают в штольнях уголь и затем в вагонетках отвозят его к подъемнику… В ресторане, кроме голосов немногих посетителей, раздавалась негромкая нежная мелодия — и он почувствовал, что в этой атмосфере тихой безмятежности головная боль понемногу утихает. Он взял бокал и медленно провел им по лбу, чтобы насладиться прикосновением ледяного стекла.
— Мне нравится здесь, — тихо сказал он.
Она посмотрела по сторонам, подняла голову, чтобы поглядеть на потолок, ее лоб сморщился, и он заметил, что кожа у нее уже чуть увядшая, особенно под подбородком. Но от этого она не показалась ему ни более старой, ни менее привлекательной, и он не жалел об этой встрече.
— Мне этот ресторан больше нравился таким, каким он был раньше, когда здесь не играла музыка. Только тишина… приглушенные голоса, стук ножей и вилок о тарелки. Вы, я хочу сказать — ваши соотечественники, изобрели, индустриализировали, навязали миру привычку жить под приятное музыкальное сопровождение, от чего все становится похожим на кинофильм, то есть на вымысел. — Она выдохнула струйку дыма и отпила глоток мартини. — Когда я была в вашей стране… я уже, кажется, говорила вам, что около года читала лекции в одном из университетов Запада… Или не говорила?.. Так вот, когда я была в вашей стране, лейтенант, я узнала, что все мелодии, звучащие в магазинах, в больницах, в залах ожидания и в фойе кинотеатров, записаны на магнитофонные пленки фирмой, которая снабжает ими своих «подписчиков» и время от времени заменяет кассеты другими, с «новым зарядом». Мне рассказывали, что музыка выбирается по наркотическому, если так можно выразиться, признаку, то есть мелодии должны быть нежными и способными слиться с тишиной… Это своего рода звуковая мимикрия. Мелодия, которая могла бы взволновать слушателя или заставить его размышлять, отвергается. На мой взгляд, это порождается слишком уж прагматической манерой оценивать музыку — ведь она, по моему мнению, представляет собой высшую форму художественного выражения.
Она снова посмотрела по сторонам и закончила:
— Вот почему, лейтенант, я предпочла бы, чтобы это место оставалось тихим, как… храм.
Лейтенанту нравилось, как эта иностранка говорила на его родном языке — свободно и естественно, хотя и с заметным акцентом, полным грассирующих «р». Она сохраняла и интонацию своего родного языка, а потому у него создавалось странное впечатление, будто он слышит знакомую мелодию, но исполняемую в тоне, отличном от того, к какому он привык.
Она улыбнулась.
— Ну, я могу подтвердить, что мы едим с удовольствием, а вот вы, в сущности, неисправимые пуритане, видите в еде плотский грех. Говорить о еде — для вас это дурной тон. Ваши соотечественники едят прагматически, подсчитывая, что им необходимо такое-то количество калорий, витаминов и минеральных солей. Говоря начистоту, они нас презирают (причем в этом презрении есть немного зависти), потому что мы теряем слишком много времени за столом.
Лейтенант, уже слегка опьяневший от коктейля, развел руками:
— О! Вы преувеличиваете!
— Ну, уж если говорить о преувеличениях, то — исключая, разумеется, нацистское варварство — была ли в этом веке более «преувеличенная» и нелепая война, чем та, в которую вы ввязались и которую вы не можете выиграть… и не хотите проиграть?
— Ну, как солдат… — начал было он, но она его перебила.
— Я знаю, что вы не профессиональный солдат, а штатский в военной форме. Если вы мне скажете, что согласны с этим безумным геноцидом, я вам просто не поверю.
Он посмотрел ей в глаза.
— Вот уж не думал, что вы нас так не любите.
— Кто это вам сказал? Для меня естественно любить людей, страны, вещи… хотя у меня и есть личные причины относиться к жизни несколько сдержанно. Но в ваших согражданах есть то, что меня иногда раздражает. Это своего рода простодушие, рискованная игра в юношескую наивность, смешанная… с фарисейством.
Он скривил губы в недоверчивой усмешке и отпил еще глоток мартини. Она продолжала:
— На мой взгляд, вы, возможно, сами того не замечая, превратились в современных инквизиторов, которые хотят силой навязать «еретикам» свое спасение и свой рай.
— Вы имеете в виду эту войну?
— Да, а также и тот род мира, который ваша страна несет так называемым слаборазвитым странам, — полицейский, колониальный, скажем, римский мир… А что касается этой войны, то вы, по-моему, ведете себя как неуклюжий добрый самаритянин, который ранит и даже убивает человека, думая его спасти…
Он слушал ее и улыбался. Легкое опьянение делало его неуязвимым для таких нападок.