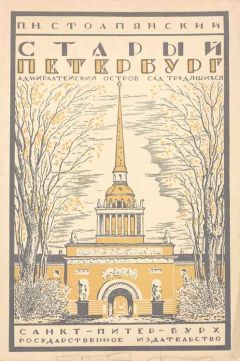Баба Маня и в свои за девяносто не дожила до отрешенности: ее бессмертие всегда было при ней. Перестреляли всех ее сестер — так при Ироде и не такое бывало. Скрюченная, словно вырезанная из корневища каким-нибудь Коненковым или Эрьзей, улыбаясь, она вспыхивала юной радостью. Такая улыбка на твоем лице, папочка, всплывает у меня только из самой детской памяти…
Когда же ты потерял эту улыбку?!.
Такое обвинение меня просто повеселило — Лозовик террорист! Этакий Савинков! Вот посмешу друзей!
— Но поймите, что это для вас хуже. Если вы не признаетесь, а вас разоблачат, вы пойдете под суд, и без всякой пощады. А если признаетесь, мы вас тут же выпустим. А Лозовика вышлют на три-пять лет в Алма-Ату, и делу конец, — намек, возможно, на Тарле.
Но я оставался глух ко всем его призывам.
— Тогда подумайте, — и меня снова отправили в тюрпод.
Мои сокамерники, однако, ничему не удивлялись. А может быть, боялись и провокаций: слишком уж я, петушок неоперившийся, откровенно рассказывал о своих делах. У меня тоже романтизм постепенно выветривался. Лозовик никак не мог этого придумать — значит, все идет откуда-то извне. Так откуда и зачем? Изучив немного юридические нормы, я потребовал очной ставки с Лозовиком. И мне ее любезно предоставили. Мне запомнился маленький, кругленький человечек по фамилии Борисов, но это, видимо, был псевдоним. За столиком в стороне сидел Лозовик. В чистой серой туальденоровой рубашке, выбритый, он выглядел довольно спокойным. Я поздоровался и уселся против него. Разговор начал Борисов:
— Мы все-таки не хотим доводить до очной ставки и надеемся, что вы образумитесь и сами все расскажете.
— Мне рассказывать нечего, я просто не понимаю, что все это означает.
— Тогда вы рассказывайте, — обратился Борисов к Лозовику.
Тот молчал, спокойствие с его лица сползло. Тогда Борисов начал задавать ему “наводящие” вопросы, и Лозовик отвечал односложным “да”. Я же продолжал все отвергать, утверждая, что и сам Лозовик ни в каких организациях не состоял. Лозовик же подтвердил и то, что он мне поручил протаскивать контрреволюционную троцкистскую контрабанду (ходкое тогда слово в науке) в лекциях и диссертации.
— А к какому времени относится диссертация?
— Ко времени Крестовых походов.
— Какой же может быть троцкизм в XI — XIII веках?
Лозовик молчит. Тогда свою “эрудицию” стал проявлять Борисов.
— Вы ведь там пишете о крестьянах? — обратился он ко мне. — Вот видите, видите — троцкисты же говорят, что крестьяне единая реакционная масса, а вы хотели доказать, что они всегда были реакционными. Так? — обратился он к Лозовику.
Тот что-то пробурчал утвердительно. Именно пробурчал, ибо вид его становился все более жалким. И тут я не выдержал и бросил ему дерзкое:
— Напрасно Горький говорил, что слово ЧЕЛОВЕК звучит гордо!
— А, вы хотите показать, что знаете Горького?
— В этом никто не сомневается, а вот знаете ли вы…
Я почувствовал, что теряю самообладание, но вид Лозовика меня тут же утихомирил. По лицу у него потекли слезы.
— Вот оно, твое лицо бандита, террориста! — начал орать на меня Борисов, перейдя на “ты”. — Мы тебя загоним туда, где Макар телят не пасет! Смотрите, даже здесь заставляет плакать честного человека. Повернись сейчас же лицом к стенке!..
— Какая же это будет очная ставка, если я спиной буду сидеть к нему?
“К нему” я произнес с таким подчеркнутым презрением, что Лозовик заплакал навзрыд. Но повернуться к стене все-таки пришлось. В кабинете у Борисова были еще сотрудники, которые меня “брали”: Хаит (или Хает), а фамилия другого была русская, хотя он был с явно выраженным еврейским лицом. Они свободно расположились на черном диване и стали пикироваться со мной: подумаешь, мол, какой! Не таких обламывали! И все с издевкой, с местечковыми хохмами (тогда указаний Сталина о применении пыток еще не было). Я старался придать себе равнодушный вид, но на душе становилось все тревожнее: террор, агитация… И такой заведомо невинный человек это подтверждает. Ничего, будет суд, мелькало в голове, там я все разоблачу. “И подымется мускулистая рука рабочего класса!..” Но то ведь против царизма…
И снова, распалившись, я начал угрожать следователям судом.
— Вот вы себя и выдали! Хотите захватить власть и с нами расправиться.
Это Борисов. В отличие от Волчека, он был более наглым и циничным.
— Нет, это наша партия, коммунистическая, во главе со Сталиным, с вами расправится за все это!
Хотя здесь я слукавил: после голода 33-го я уже знал Сталину цену. И когда мне потом рассказывали, что впоследствии Борисова на носилках выносили от следователя, я без всякого злорадства подумал: вспоминал ли он мои слова? Нет, я не был пророком — напротив, меня спасала наивность. Впитанное с детства презрение к местечковому “мусер” (доносчик) тоже спасало меня от провокаций, в которых запутывались мудрые и разумные. Я и в камере все это рассказал, но никто не осмелился комментировать. И мне стало стыдно, что я Лозовику нагрубил.
А я, к своему ужасу, почувствовал, что мне мучительно жалко уже не родного отца, а неведомого мне Перикла-Лозовика. Особенно добила меня его чистая туальденоровая рубашка — старался, обряжался в этот немаркий сиротский цвет… Дочиста брил свои одутловатые щеки, как будто можно сохранить приличный вид, когда тебя остригли под ноль… Одышливый отечный Лозовик сидел передо мной, развесивши простодушные губы, а отец гордо парил над ним, словно молодой орел. И жалости нисколько не внушал — как можно жалеть орла, даже и с каторжной стрижкой? А Волчека в этой картине было вообще не разглядеть, лысоватый он или жестко-кучерявый, как проживающий у нас на лестнице ризеншнауцер.
Потекли снова однообразные дни. Но однажды, возвращаясь с прогулки, я увидел у дежурного газету в черной рамке (он тут же ее перевернул). “Все, кого-то убили, значит, начнутся массовые расстрелы, как после убийства Кирова”. С этой вестью я и пришел в камеру. Но особой паники это уже не вызвало, хотя все считали, что будет именно так. Усталость и упадок духа делали людей безразличными. Но вечером я прямо спросил Волчека: “Почему черная рамка в газете?”
— Умер Горький, — ответил он спокойно.
Вскоре меня снова перевели из тюрпода в одиночную и в “вóроне” возили на следствие. Иван Иванович приносил книги, а когда уставали глаза, я начинал разрабатывал маршруты по Крыму и Кавказу после освобождения: оставалось меньше двух месяцев до окончания следствия. Или воспроизводил в памяти дом за домом в родной Терлице, перебирал все, что помнил о домашних…
Во время очередного допроса всплыл новый свидетель обвинения — доцент Перлин, которого я совсем мало знал. Перлин читал историю русской литературы и считался “властителем дум”. Внешне интересный, он получил в НКВД прозвище Евгений Онегин. Что я с ним имел общего или он со мной? И еще умный, остроумный человек! Я сразу потребовал очную ставку. И вот кабинет следователя Грозного — длинный, узкий. Следователь за столом против окна, сбоку Перлин без своей вдохновенной шевелюры. Он сидел совершенно убитый, от былого блеска и признака не осталось.
Я сел напротив, невдалеке мой попечитель Волчек. Я не мог смотреть на Перлина, горько было видеть этого некогда гордого человека. И в глаза бросились уж больно тонкие колени Грозного. Как стрекоза, а еще… Грозный, видимо прочитал на моем лице иронию и с ходу стал кричать: “Не увильнешь, все тебе докажем!..” Я молчал, стараясь сохранить хладнокровие. И повторилась комедия с Лозовиком. Перлин сам не говорит, а только поддакивает: “Да, вовлек, поручал, а он меня информировал, что террористическая группа создана”.
— Может, у вас вопрос к Перлину?
О чем спрашивать, когда все сплошная ложь? Но что-то же надо. Вот и спрашиваю: когда, где? И получаю “точные” ответы. Не удержался и снова стал грубить, и снова меня посадили спиной к Перлину. Слышу всхлипывания, а меня злость разбирает: надо же такое выдумать!
— Пойдемте.
И Волчек повел меня в кабинет Брука. Началась тройная обработка. Кто увещевал, кто угрожал, но я уже успел взять себя в руки: “Выдумка, и не знаю для чего, дайте только до суда добраться”. (И подымется рука!..) Среди препирательств пришел Грозный.
— Перлин просит, чтобы вас оставили с ним один на один, заверяет, что тогда вы все подпишете. Согласны?