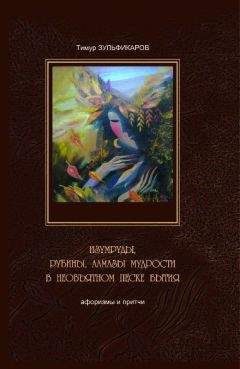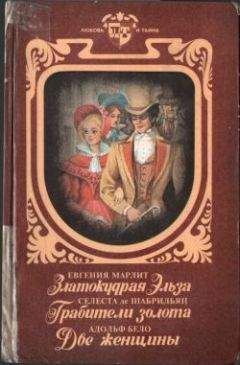— Прости, прости. У меня первый раз такое. Это от переизбытка чувств. Обычно все нормально, солдат стоит по стойке «смирно», а тут… Прости!
— Послушай! Меня абсолютно не интересуют твои половые проблемы. Я так понимаю, что у нас сейчас еще ничего не было?
— Ну, можно и так сказать. Но я…
— Не надо. Слава богу. — Катя тяжело, но успокоенно перевела дух, забралась под одеяло. — Женя, я, наверное, даже рада тебя видеть. И считай, что я тебя простила, хотя не знаю за что? За то, что было восемь лет назад, когда я избавлялась от твоего ребенка, или за то, что ты только что меня чуть не изнасиловал?
— Кать, ну ты же сама…
— Послушай, не мог бы ты одеться? Я после аварии все это время сижу на сильных таблетках. Перед твоим вторжением я их только приняла, мне необходимо поспать. Если ты хочешь действительно со мной пообщаться, приходи через час.
— А можно я посижу рядом с тобой тихонечко?
Комната начала тихо кружиться, Женю окутал туман, стены номера плавно раздвинулись. Катя цепляясь за остатки сознания, замедляясь, пыталась объясниться:
— Женя, я замужняя женщина и больше всех на свете люблю своего мужа и дочь. Однако ты мне не кажешься опасным, и у меня нет сил тебя выгонять, и если ты обещаешь, что не будешь насиловать спящую больную женщину, то сиди.
Женя спешно затарахтел:
— Обещаю, обещаю, да, видно, и не смогу. Солдатто мой облажался.
— Это, похоже, для тебя страшнее всего, — Катя говорила не очень четким голосом, уже засыпая, — его же тебе вроде оттяпали.
Замечание нисколько не поставило Женю в тупик, он даже как будто встрепенулся:
— Ты и это знаешь.
— Женька, отвали, я сплю.
Катя провалилась в черную бездну сна.
* * *
Постепенно сквозь черноту начала проглядывать синева с голубыми бликами, откуда-то издалека пробивался тусклый свет. Катя в одной прилипшей к телу ночнушке пыталась вынырнуть из синей толщи воды. Вода, густая, как кисель, сковывала движения. Ни дна, ни поверхности не было видно. Катя задыхалась, с огромным трудом плыла все дальше. Сверху начало проглядывать солнце. Она подплыла к поверхности — это лед, судорожно стала биться о него головой и руками и наконец проломила. Лед крошился, полынья становилась все больше, наконец, хватаясь за край, усилием воли она вытолкнула тело наверх и… снова оказалась в толще воды. В панике, задыхаясь, она снова пыталась вынырнуть на поверхность, преодолевая страх, холод и сопротивление студенистой жидкости, но там ее ждал очередной лед. А сил больше не осталось.
* * *
Катя проснулась, тяжело дыша, как рыба на берегу. В комнате темнота, рядом с кроватью сидел одетый Женя и держал ее руку в своей. Катя посмотрела на окно, оно было не зашторено.
— Привет, чего так темно?
— Ночь на дворе.
— Сколько же я проспала?
— Часов семь. Бедненькая, как же ты намучилась, так стонала. Эта проклятая авария, чертова Лена… Я Павлова ни в чем не виню. Ядовитых змей надо давить без жалости.
— Она же, кажется, была беременна? — Злоба, звучащая в голосе Жени, почему-то раздражала Катю.
— Ага, от меня. — Женю передернуло.
— Как и я.
— Прости, прости меня. — Женя вновь начал всхлипывать и попытался обнять Катю.
— Ну вот, опять все сначала.
— Я любил только тебя, остальное так: спорт, веселье. Мой солдат всегда рвался в бой, и я не мог его удержать.
— Смешно, смешно, теперь уже даже не больно. Время вылечило все, смешно мне теперь это слушать. Я собирала себя заново, память — это мой детский дневник и Гришины рассказы.
— Я помню твой дневник, дурацкий такой, с котенком. Ты мне его еще никогда не давала.
— Лучше бы я тебе вообще не давала. Влюбилась, как под лед провалилась, до сих пор тону. Дневник мой оборвался после выпускного бала, дальше все страницы вырваны. Больше я с такой дырой в памяти жить не хочу. А еще эта Вика стремная с дочкой. — Катя на мгновение замолкла, мелькнула новая мысль. — Подожди, но как же ты узнал, что я здесь? Григорий позвонил? Абсурд. Белка — не успела бы.
Женя легко и как-то даже задорно рассмеялся:
— Да просто все: Вика — это мой брат Виктор. Помнишь его? Она мне позвонила, сказала, что ты нашлась, что ты здесь. Я так обрадовался! Гнал под двести, плакал всю дорогу. Думал, узнаешь ли ты меня, простишь ли? Восемь лет ждал.
— Угу, и сразу в постель, на бедную инвалидку — извиняться. Ты все такой же кобель.
— Да я сам не знаю, как это…
— Ну ладно, ладно. А что это у нас за колечко на пальце? Ты ж гад, еще и женат.
— Ну да, и сыну шесть лет. В садик ходит, правда, не мой сын — жены. Я, Кать, после того как чуть без солдата не остался, три года к бабам не подходил. Веришь? В Москве хоронился, у мамы. Павлова боялся — жуть. Бухал, только с Викой общался. Мать меня в дурку к профессору Куренкову устроила, вот он меня к жизни и вернул, вернее, санитарка, которая за мной ухаживала. Она стала моей первой женщиной после той страшной травмы. Я так обрадовался, что солдат опять в строю, что тут же на ней и женился.
— Что за бред, называть свой член «солдатом»?
— Это у меня после дурки, мне так легче, спокойнее — Куренков посоветовал.
— Ладно, офицер. Ложись рядом, ночь у нас с тобой будет длинная, солдата отпускай в увольнение, будешь мне сейчас рассказывать про нашу любовь — как все было. Только не ври. Мне Белка уже все про тебя, про себя, про Риту и про Лену павловскую рассказала. Тебе, кстати, ребенка-то своего от Лены не жалко, что ли? Она змея, а ребенка-то своего не жалко?
— А чего ее жалеть? Дуру здоровую — она ж с Викой, Катька-то моя. Я близко к ней не подхожу, мне доктор запретил, чтобы стресса не было. Чтоб с солдатом чего, не дай бог. Она ж вылитая Ленка.
— Ну-ка, ну-ка! Ничего не понимаю, голова болит. Вика — Виктор, Катька твоя. Давай с этого места поподробнее.
— Да чего здесь непонятного? Вика — сестра моя, восемь лет назад бесилась с жиру, трансвеститом была. Ты ее видела у меня — с усиками. Лена, короче, ребенка-то родила, когда она в коме была. Ребенка спасли, а ее — нет. Павлов ее крепко приложил. Вика моя каким-то образом девочку удочерила. У нее самой детей быть не может — грехи молодости. Ну вот, сбылась мечта идиотки, за деньги-то все можно. Ты их в Москве и встретила, понятно?
Катя была окончательно сбита с толку.
— Занятно, дочь твоя и Лены? А похожа на меня. Почему?
— Катя, ну ты даешь! Да потому, что эта Лена чертова — твоя сестра по отцу. Он ее, правда, только перед смертью признал, а так всю жизнь игнорировал. Он тебя любил. Ты что, и этого не помнишь?
Второй раз за день Катя была абсолютно не готова к услышанному, у нее, оказывается, была еще и сестра.
— Ну вот приплыли. Мне уже Белка что-то про отца плела, почему-то про Папагена. Учителя танцев. Все вы танцоры — кобели! Ты сейчас как?
— Кобель.
— Я в смысле — танцуешь?
— Больше ставлю, маманя меня в «Доллз» устроила. Тебе про любовь-то нашу рассказывать?
— Про любовь? Погоди. Я ж никак родиться не могу. У меня в дневнике другой отец. Давай с отца начнем, с этого доброго и хорошего — человека и Папагена.
— Ну, ладно, слушай.
Часть III. «ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ»[2]
Колоколамск. Восемь лет назад
Этим летом все продвинутые чуваки и чувихи города Колоколамска слушали только новую модную группу «Мумий Тролль», а подсадил их на нее главный мачо городка — Женя Королёв, строивший свою молодую жизнь по Илье Лагутенко. «Кот кота — ниже живота» — с утра крутилось в отягощенной тяжелыми думами, длинно-светловолосой голове звезды коламского ночного клуба. Женя был очень зол. Он шел по городу, засунув руки в карманы джинсов, и пинал консервную банку, которая случайно попалась ему под ногу. Неимоверно ярко светило июльское солнце, уже который день стояла страшная жара. Голову напекло, футболка противно липла к спине. Он всю дорогу пытался идти в тени домов и деревьев, но это не всегда получалось, все равно кое-где приходилось передвигаться под безжалостно палящим солнцем. Мысли крутились только вокруг одной темы, вернее одной стервы.
«„Ниже живота!" Да пошла она на хуй, эта Лена! Он никому не позволит так с собой обращаться. Неужели все беременные такие ебанутые? „Узнаю, что трахаешь кого-то, — хуй отрежу!" Знает, чем пугать. Кастрацией, бля. Как кота! „Кот кота" — черт, вот привязалась дурацкая песня! Хотя нет — песня реальная, и „Мумик" круче всех! А котам вроде как яйца отрезают. А если член — это оскопление. Все — баста! Завтра он двинет в Москву, к мамане, пусть что-нибудь придумывает. А сука-Ленка останется здесь, в жопе мира, со своим Павловым, вот он ей и покажет „ниже живота"!» — Евгений с силой пнул банку, и она улетела в кусты.
От мыслей про Лену его отвлекла открытая дверь Дома творчества юных. «Оба-на, а чего это он открыт? Ведь не сезон. Может, зайти к Папагену перед отъездом, попрощаться? Он всегда был реальным челом». Женя зашел и поднялся на второй этаж, где располагался актовый зал. Его шаги гулко разносились по знакомым пустым рекреациям, пахло краской и пылью, откуда-то издалека доносился стук молотка. Сколько раз он бродил по этим коридорам? Женя мог, закрыв глаза, легко пройти от входной двери до танцзала. И сейчас, проходя знакомым маршрутом, он чувствовал что-то похожее на ностальгию. Здесь Женя шесть лет занимался бальными танцами под руководством любимого педагога — Геннадия Андреевича, которого за глаза все звали просто — Папаген. Женя прошел через танцзал, где рабочие в это время меняли зеркала, и заглянул в кабинет, которым Папагену служило небольшое помещение при танцзале. В комнатке было очень тесно, еле-еле помещался письменный стол, как всегда чем-то заваленный, несколько стульев, шкафгардероб и стеллаж, уставленный призовыми кубками. По стенам были развешаны многочисленные грамоты, фотографии любимых учеников.