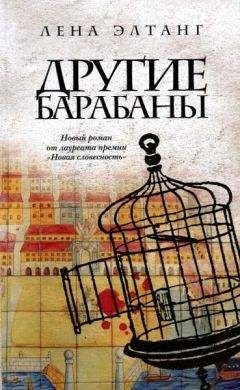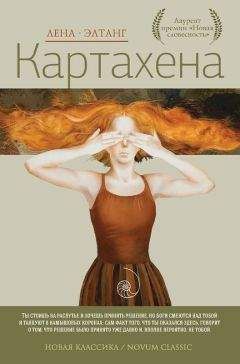«Калиф-аист»! Это было написано на афише с двумя танцующими длинноклювыми птицами. И еще мелкими буквами: Universidade Nova de Lisboa, спектакль поставлен в кампусе, силами преподавателей. Так вот я где — на другом берегу реки, в Алмаде.
Я стоял перед афишной тумбой, отчаянно пытаясь собраться с мыслями. Аисты, нарисованные прерывистой китайской кисточкой, кружились и приседали в сером тумане, название спектакля разбегалось черными лягушками и ящерицами у них из-под ног. Ну да, разумеется. Стоило сказать мутабор, как двери открылись бы, и я превратился бы в человека, вот только мутабор никак не вспоминался, как будто я нанюхался колдовского порошка, не смог удержаться от смеха и погрузился в туман, плотное аистиное забытье.
Нет, если уж на то пошло, я был не калифом и даже не визирем. В этой истории я был Мизрой, сыном колдуна, которого в конце сказки обратили в аиста и посадили в клетку. Мизра помнил нужное слово, но предпочитал его не произносить, он хорошо подумал и решил, что если уж сидишь в клетке, то птицей быть лучше, сподручнее.
Странный лязгающий звук оторвал меня от афиши, я задрал голову и увидел молодую женщину в окне кирпичного дома на другой стороне улицы. Это была первая женщина, которую я видел с тех пор, как оказался в тюрьме (та заполошная сеньора, что врывалась в кабинет следователя, не в счет), и она показалась мне настоящей пери.
Женщина стояла на коленях в открытом окне и пыталась подцепить верхнюю застрявшую фрамугу длинной палкой с крючком. Она посмотрела вниз, усмехнулась и помахала мне палкой, наверное, ее насмешило то, что я стоял под окнами, разинув рот, как какой-нибудь аль-Куз-аль-Асвани. Я смотрел на ее колени, снизу казавшиеся белыми и блестящими, будто камфора, и думал, что с этой минуты все пойдет по-другому, не может не пойти. Это была не просто женщина и даже не просто пери, это был знак, отметина.
Смешно, что я стал рассуждать, как Лилиенталь с его черными кошками и бросанием соли через плечо, но я смотрел на ее колени неотрывно, и сомнений у меня не было. Мало того, я чувствовал, как забытое уже желание заполняет меня, как вода заливает тонущее судно, делая меня тяжелым и покорным, мягко опуская на дно, на морские луга с дремотно шевелящейся травой.
Фрамуга подалась, женщина распахнула ее, выпустив на волю занавески, запарусившие на ветру, еще раз посмотрела вниз и ловко слезла с подоконника. Занавески были серыми, с коричневым узором из перьев, и походили бы на два птичьих крыла, не будь их движение таким порывистым — так движется охотничье вабило, когда на него подманивают ловчего сокола, чтобы отобрать у него добычу. Я смотрел на них и думал, что все, происходившее со мной с начала зимы, было чем-то вроде вабила — парой крыльев, оторванных от мертвой птицы.
А я знай сидел на жердочке и пел о своем.
Потом я двинулся дальше, вдоль бетонной стены, быстро шагая, чувствуя, как тело понемногу разгоняет застоявшуюся кровь, прикидывая, в какие алмадские дебри меня завезли, но стоило мне завернуть за угол, как меня разом вынесло на набережную, я огляделся и задохнулся.
Город возник перед моими глазами, будто остров Эмайн на четырех ногах из белой бронзы, открывшийся правителю Британии. Да черт с ними, с кельтами, город бросился на меня сразу весь, как будто нас не разделяла река. Я услышал его звук и почуял его запах, он подполз к моим ногам, как соскучившийся пес, и я засмеялся от радости, как законный хозяин. Оказалось, я шел по улице, ведущей к мосту, а прямо за афишной тумбой начиналась просторная Руа до Помбаль, над которой стояло облако просвеченной солнцем пыли. Я вышел на угол, встал под козырек остановки, пересчитал мелочь, оставшуюся в карманах, и стал ждать автобуса.
* * *
Огромны были его уши,
И глаза, такие же числом, проницали все вещи.
Когда умерла моя бабушка Йоле, я разглядывал ее без страха, отмечая, как быстро властное, полное пепельного жара лицо потеряло свою хваленую красоту, я даже какое-то злорадство испытывал, глядя на ее сморщенную, как греческая маслина, руку, лежавшую поверх простыни. Руки она всегда прятала, даже сидя за столом умудрялась держать их на коленях, шторы в ее комнате были плотно задернуты, заходить к ней без стука было преступлением, а шуметь и носиться по квартире, когда она спала, запрещалось и каралось незамедлительно.
До сих пор не знаю — откуда в литовской селянке к старости отыскалось столько театрального деспотизма и куража. Мать относилась к этому проще. Все, что бабушка говорила и делала в последние годы, называлось у нее двумя словами — норов, atkaklumas, или блажь, užgaida. Стоило бабушке попытаться затеять ссору, как мать бросала недораскатанное тесто, книгу или машинную строчку и выходила из комнаты. Наблюдая за их диалогами, я и сам научился прерывать на полуслове любой тревожный или не слишком нужный мне разговор.
Не уверен, что это умение мне пригодилось.
Может статься, эти норов и блажь и были тем, что покорило моего русского деда, когда он увидел стройную, злую и безотвязную, будто оса, жену сибирского арестанта. Что он такое увидел, думал я, вглядываясь в картинки с зубчиками и надписями вроде «Привет из Ялты» или «Linkėjimai iš Palangos, 1964», что принудило его отказаться от прежней жизни и слушать с утра до вечера чужой шелестящий язык, чужие непонятные присказки? Красота Йоле требовала движения, застигнутая магниевой вспышкой она сникала: с пожелтевшего снимка на меня смотрели узкие своенравные глаза без ресниц, будто заполненные горячим варом, остальное казалось бледным и незначительным.
Что касается красоты моей матери, то вся она сосредоточилась в груди, будто в двух последних шишках на больной сосне — где-то я читал, что сосны сбрасывают все шишки, кроме безупречных, когда чувствуют, что погибают. Лицо ее было плоским, словно у караимки, а волосы жесткими, зато грудь сверкала, будто два золотых победительных шлема. Грудь была единственной частью матери, не вызывавшей у меня сопротивления (представляю, что сказал бы Лилиенталь, прочитав эту фразу).
Ну, довольно о них. Я собирался описать тебе свой приход на Терейро до Паго, но мне никак не удается начать, да и не слишком хочется, если честно. Пожалуй, начну с того момента, как я открыл дверь своего дома оставшимся в кармане пальто ключом и поднялся по лестнице наверх, где в дверях столовой меня ждала улыбающаяся Агне в длинном платье с неровно обрезанным подолом. Из-под платья виднелись босые ступни, на мизинце левой ноги блестело серебряное кольцо, а на руке, которую она ко мне протянула, было еще штук семь таких же.
— Косточка! — она сказала это низким, прерывистым голосом, так похожим на голос ее матери, что я чуть не споткнулся на последней ступеньке. — Господи, как ты постарел! А я как раз уложила ребенка спать и решила немного развлечься.
Я подошел к ней, смущаясь тяжелого запаха, исходившего от пальто, всю зиму служившего мне одеялом, Агне встряхнула волосами, покачнулась и упала мне на грудь, тихонько хихикая. Напрасно я беспокоился — моя сестра была так пьяна, что не отличила бы миндаля от свежей рыбы, она уткнулась горячим носом в мое ухо, и я вздрогнул, вспомнив рыжую собаку Руди, с которой лет двадцать назад обнимался у этих же самых дверей. Руди вставала на задние лапы — вернее, на ту единственную, что у нее была, опиралась передними лапами о мои плечи, стараясь не поцарапать, и ловко, со вздохами и причмокиваньем, вылизывала мне лицо и шею. Мы были одного роста, но Руди была сильнее, несмотря на увечье.
Алкоголь до крайности неприятен в чужом, нелюбимом теле, хотя совершенно не мешает во всех прочих случаях, а трава и того хуже. Агне, похоже, отведала и того и другого, в ней появилась какая-то горделивая тревога, глаза у нее бегали, а подбородок норовил задраться все выше.
Я усадил сестру в кресло в столовой, быстро прошел в кабинет и открыл ящик стола, заваленный грудой нераспечатанных конвертов. Под конвертами и парой зимних номеров «Antiguidade» лежал неприкосновенный запас в шерстяном носке, об этом носке я думал с томлением шестьдесят четыре дня. Бумага пересохла — как только я поднес к ней зажигалку, она вспыхнула и разом сожгла половину джойнта.
— Я не стала разбирать почту, — заявила Агне, которой, похоже, не сиделось одной. Она стояла в дверях кабинета, прислонившись спиной к дверному косяку и сложив руки на груди. — Просто взяла всю пачку и положила тебе в стол. Наверняка это всего лишь счета. Сколько я себя помню, в этот дом приходят только счета и реклама «Todo mundo».
— Тебе не звонили из муниципалитета? — спросил я, не слишком надеясь на ответ. — Увидишь, они повесят на нас штраф за содранную печать, когда дом оформят на покупателя, и он здесь появится, чтобы выставить нас вон.
— Тут кое-кто уже появлялся, — сказала Агне, зевая и прикрывая рот рукой.
— Лилиенталь?