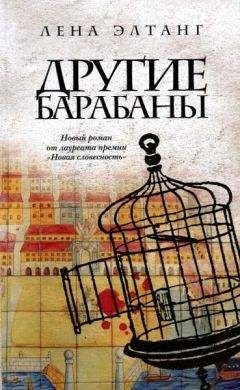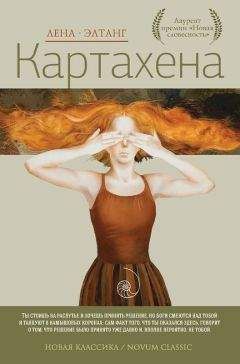Безумна или нет, но гнев, разбухающий в ней, был мне понятен, как свой собственный. Будь я коренным лиссабонцем, считающим, что гневная женщина источает плохой воздух, я выпустил бы рубаху из штанов или потрогал бы ладанку с листочком арруды. Будь я южанкой-служанкой, то зевнул бы во весь рот и перекрестил бы губы большим пальцем правой руки — это тоже спасает от порчи. Но я не лиссабонец и не южанин, я даже не литовец и не поляк, не муж и не любовник, не сын и не племянник, и даже не дядя — ну, какой из меня дядя?
— Знаешь, — сказала Агне, — мне хочется закричать. Нет, мне хочется потянуть за край скатерти и стряхнуть все это барахло со стола. Единственное, что меня удерживает, это тот факт, что веджвудские чашки с голубыми ивами — тоже мое наследство. Вернее, все, что от него осталось.
— Не все, — я поднялся со стула, стараясь держаться подальше от сестры. — Пойдем, я покажу тебе сейф, там лежит колье — самое лучшее из всего, что было найдено в доме. Колье я не продал, потому что видел его однажды на Зоиной шее, еще тогда, в девяносто первом. Оно нашлось у нее в спальне вместе с письмами, целой грудой писем, которые ты, наверное, захочешь прочесть. Я убрал его в сейф, потому что все норовили его примерить или пощупать. А письма у меня в столе.
— Боже, ты безнадежен, — Агне тяжело поднялась и пошла за мной. — Мать никому не писала писем, и ты это знаешь. А если ты не пишешь писем, то и тебе не пишут. И никакого ожерелья я на ней не видела, ни в девяносто первом, ни в восемьдесят шестом.
— Зоя писала письма! Она сама говорила мне, что написала воз и маленькую тележку писем, когда разыскивала своего Зеппо.
— Кого разыскивала? — сестра остановилась и посмотрела на меня с недоумением.
— Зеппо! Ты что, вообще о нем не слышала?
— Конечно, слышала. Так звали старика, который жил над нами на улице Бороша, я была совсем маленькая, но я его помню. Он работал в лавке на углу и часто приходил за мной присматривать, когда мама поздно возвращалась из кафе, иногда даже коржики приносил.
— Какие коржики?
— С маком, — она пожала плечами. — Странно, что ты об этом знаешь. Она тебе что, всю свою жизнь рассказала по минутам? Ну давай, показывай.
Мы вошли в спальню, я наклонился, нащупал рычаг, поднял его и отодвинул зеркало, открыв квадрат стены с виноградными гроздьями и дверцу сейфа с рифленым колесиком. Я с трудом набрал пароль, пальцы заледенели и не гнулись, у меня всегда так, когда я предчувствую неприятности. Дверца открылась, и Агне за моей спиной тихо вскрикнула.
— Здесь еще много!
Я заглянул в сейф и увидел четыре толстые пачки банкнот, перехваченные резинками. Еще одна пачка лежала вроссыпь поверх свернувшегося змейкой цитринового колье, которое я собирался вернуть законной наследнице.
— Слушай, их тут раньше не было! — ничего убедительней я в тот момент не придумал, у меня даже рот пересох от волнения.
— А мне кажется, им тут самое место, — сказала Агне и, запустив руку в сейф, аккуратно выгребла деньги себе в подол. — Ты же сказал, что растратил мое наследство. Выходит, не успел?
— Погоди, — я пытался ее остановить, — мы ведь не знаем, чьи это деньги. Когда меня забирали в полицию, в сейфе было пусто. Я понятия не имею, как они сюда попали!
— Зато я имею, — торжествующая Агне обернулась от дверей своей комнаты. — Деньги мои, вернее, наши с сыном. А ты поди, поройся на посудных полках, может, найдешь еще какой секретик.
С деньгами в приподнятом подоле и лукавой улыбкой на устах она была похожа на цветочницу из пьесы Бернарда Шоу, только там были фиалки и, кажется, не подол, а корзина. The rain in Spain stays mainly in the plain! Я покачал головой, но сестра не дала мне сказать, щеки у нее горели, как будто ей надавали пощечин, шея пошла пятнами.
— Они мои! Здесь, наверное, не все, но я согласна и на это, раз уж так получилось.
Что я мог на это ответить? Я даже не знал, сколько там денег, в этой куче, хотя уже начал догадываться, кому они принадлежат. Я захлопнул дверцу сейфа и нажал на рычаг, чтобы зеркало встало на место до половины. Агне отправилась к себе, придерживая подол обеими руками.
I think she's got it! I think she's got it!
By George, she's got it! By George, she's got it!
* * *
Он тронул свитый раковиной рог,
которым бык рассек бы в упоенье
его расшитый бок.
Эта тюрьма, несмотря на название Центральная, оборудована гораздо хуже прежней. Завтрак не приносят, а за обедом нужно идти в конец коридора, к зарешеченному шлюзу, где стоит бак с похлебкой. В камере все из нейлона, и матрасы, и одеяла, а подушка набита комьями поролона, ночью я кашляю, не переставая, и сосед швыряет в меня ботинком.
Грызу ногти и пишу на коричневой бумаге, запястье у меня опухло после драки, карандаш то и дело роняет грифель, но я царапаю буквы, понимая, что плохо рассказанное настоящее — всего лишь зеленка и цыпки, а плохо рассказанные воспоминания язвят и раздирают будущее.
Когда-то давно, в один из зимних сырых вечеров, мы с Лилиенталем забрели в кабачок на руа до Энрико и он сказал мне, что всю жизнь завидовал Флетчеру, дворецкому Байрона, оставившему молодую жену, чтобы болтаться с хозяином по итальянским борделям и греческим лабиринтам до самой его смерти. Все это время, сказал Ли с восхищением, которое я так редко слышал в его голосе, он носил с собой портрет жены и протирал его каждое утро замшевым лоскутом. После смерти Байрона он вернулся на родину и нашел ее в добром здравии, и — представь себе — история утверждает, что они любили друг друга не меньше, чем в день свадьбы, хотя оба уже изрядно облезли и облупились.
— Чему же ты завидуешь? — спросил я, чтобы доставить ему удовольствие.
— Замшевому лоскуту, разумеется. Хотел бы я обзавестись таким лоскутом!
Я бы и за медный грош не взял этого лоскута, но спорить не стал. Спорить с Лилиенталем всегда было так же безнадежно, как прислушиваться к чужому разговору в телефонной будке, стоя снаружи под проливным дождем. Хотел бы знать, где он теперь, мой собутыльник, конопляный самец, беспамятный волокита, думал я, сидя на кухонном полу и прислушиваясь к тяжелым шагам сестры над головой. Впрочем, нет, не хотел бы — я все еще боюсь, что он окажется тем, кто покупает мой дом, и сердце мое разобьется. Даже в тот день, сидя над осколками цитринов, сияющими на полуденном солнце, будто водяная пыль, и докуривая папиросу, удачно найденную в кармане зимней куртки, я боялся, что дверь откроется и Ли покажется на пороге с ключом, полученным от судебного исполнителя.
Папироса оказалась щедрой и длинной, как пароходная труба, так что я о многом успел подумать, сидя на свернутом в рулон ковре, сосланном на кухню и потерявшем свое персидское достоинство. Я думал о тетке, которая и представить не могла, отписывая мне свое имение, что дом в Альфамском переулке окажется булыжником на крепкой веревке и потянет меня на дно, будто щенка, которого хозяева не пожелали оставить в живых.
Я думал о сестре, болтавшейся в каких-то гнилых краях без малого восемь лет и потерявшей свою пасмурную улыбку нашкодившей девочки. Я думал об отставной стюардессе и датчанке с адамовым яблоком, двух заблудших лиссабонских овечках, пытавшихся заработать себе на жизнь скучной повинностью промискуитета.
Я думал о своем рассудительном друге, который так любил свою слепую двенадцатилетнюю собаку, что записал свой голос на пленку, чтобы она могла слушать его, когда хозяина долго не бывает дома. Явившись к нему однажды, я стучал и звонил, как полоумный, потому что слышал его монотонный голос за дверью, а потом вышел и увидел его бредущим по переулку с батоном, засунутым в карман пальто на манер свернутой газеты.
Я думал о матери, которая так стеснялась меня, когда я вернулся из Тарту, что открывала оба крана в ванной, когда шла в туалет, чтобы я слышал только шум льющейся воды.
Я думал о школьном приятеле, который столько лет втыкал булавки с флажками в карту Южных морей, а к тридцати пяти оказался в затхлом немецком городке и занялся Vergnügen для бюргеров. Я думал о бабушке, которая хранила письма каторжника в комоде с нижним бельем, чтобы на них не наткнулся суровый майор, о самом майоре я думал мало, потому что видел его в последний раз на Антокольском кладбище в черных очках, а больше и видеть не хотел.
Я думал о своем шефе, который уволил меня за наглость и вечные опоздания, но забыл потребовать восемь сотен, которые я одолжил в зеленом ящике, а может, и не забыл, а простил, и еще — о бывшей мисс Сетубал, ударившей меня по щеке, когда в жаркий день я положил кусочек льда из своего стакана в вырез ее платья.
Я думал об охраннике, которого прозвал Редькой, и о том, что он делает теперь, когда тюрьма развалилась, будто раскрашенный театрик, купленный на блошином рынке. Я думал о Соле, которая не умела целоваться и крепко сжимала губы, чтобы я об этом не догадался. Когда я проснулся с ней рядом в чулане и увидел бурое пятно на простыне, то даже расстроился — это была моя первая девственница, а я ничего не почувствовал, то есть ничего ошеломительного.