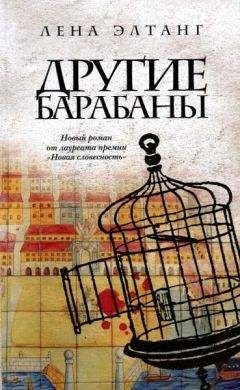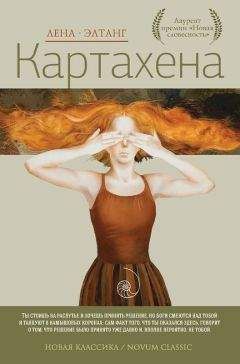— Заперто, — я немного задохнулся, не столько от того, что старался не отстать от него, поднимаясь по крутым ступенькам, сколько от внезапной усталости. Я устал от всего сразу и сел на пол возле двери. Полагаю, я устал уже давно, но держался какое-то время, как оцепеневший майский жук на дереве. Я сидел на полу и смотрел на Лютаса снизу вверх, а он смотрел на дверь, румянец медленно растекался по его шее, я отметил, что он давно не стригся, и испытал облегчение, сам не знаю почему. Какое-то время мы молчали, затем он покачал головой, согнул колени и опустился на пол возле меня.
— Не откроешь, пока я не отвечу на твой вопрос?
Я кивнул. У меня не было вопроса, как не было и ключа от спальни — думаю, его взяла сестра, Бог знает зачем заперев двери на замок. За последние два дня она совершила несколько поступков, которые, случись это прежде, насторожили бы меня до крайности, но не теперь, теперь было другое дело. Поверишь ли, дорогая, эти два дня на Терейро до Паго опустошили меня больше, чем два месяца в тюрьме, и дело было совсем не в траве, хотя выкурил я изрядно — все запасы выгреб до былинки. К тому же на этот раз потешный табак не слишком меня потешил, я просто не заметил, как прошла ночь, и очнулся от утреннего пароходного гудка в порту.
Поднялся я с трудом, потому что заснул на полу, сложившись пополам и приткнувшись к ножкам дубового стула. Я едва успел умыться и глотнуть вчерашнего кофе из носика кофейника, когда в замке поскребли ключом, и дверь открылась. Мой двуличный дом готов был впустить в себя кого угодно, будто севильская куница из романа де Кастильо-и-Солорсана, а когда я поселился в нем восемь лет назад, он с утра до вечера строил козни, лишь бы показать мне, как он меня ненавидит.
— Помнишь, ты говорил, что решился бы на все, что угодно, чтобы сохранить этот дом? — спросил Лютас, глядя прямо перед собой. — Вот и я решился бы на все, что угодно, чтобы снять свое кино. Кино, а не две позорные короткометражки и груду частных заказов с малолетками.
— Ты же говорил, в твоих фильмах все должно быть первый сорт, никакой имитации?
— В моем фильме, — поправил он, — в фильме, который я собирался снять, как только соберу проклятые деньги. Я собрал немало, Костас, но не хватало еще тысяч тридцати-сорока, вот я и продал тебя Хардиссону.
— Ты — что сделал? — я и так знал, что он сделал, но зачем-то хотел это услышать. Я повернулся к нему лицом и следил за его губами, ноги у меня затекли, в пояснице разливалась тупая боль от сидения на холодном полу.
Вот еще одна особенность моего дома: теплый пробковый пол в мансарде и терракотовый пол на втором этаже, ледяной в любую погоду, как вершина в горах Сьерра-Невады. Я, между прочим, видел одну такую совсем близко, когда мы с Лилиенталем решили смотаться в испанские горы, взяли машину напрокат и поехали на восток, куда глаза глядят. На высоте в две с половиной тысячи нас застали стремительные сумерки, и тут же пошел град, да не горошинами, а ивернями, пришлось загнать машину в неглубокую нишу в скале и пережидать до полуночи. В полночь небо очистилось, мы вышли из машины, сели на сломанный ствол рожкового дерева, откупорили вино и стали смотреть на город, лежащий внизу, как расшитая белым стеклярусом капа тореадора.
— Я продал тебя в игру, старик. Ставки были крупные, не меньше полсотни тысяч. Я просто заболел от того, что мне и гроша медного не разрешили поставить. Впрочем, они заплатили вперед — за работу и за молчание. Наличные я не мог держать в отеле и принес их сюда, здесь самое безопасное место, ты же понимаешь.
— То есть я был чем-то вроде беговой лошади?
— Темной лошадкой, першероном, — он посмотрел на меня с этой своей кривоватой улыбкой, которую Лилиенталь назвал усмешкой напроказившего рассыльного. Ли его сразу невзлюбил, я даже подумал, что это нечто вроде ревности, и был немного польщен. Они с Лютасом виделись только однажды, в шиадском кафе, за чашкой мате, которое тамошний бармен-аргентинец умел делать autentico. Разговора не получилось, в границах столика текла иная жизнь, вязкий мате стоял у меня поперек горла, а Лютас сослался на дела и быстро ушел.
— Надолго он приехал? — спросил Ли. — Ты ведь не принимаешь этого человека всерьез?
У Лилиенталя была манера делить всех на тех, кого стоит принимать всерьез, и всех остальных. Сам он принимает всерьез только своего Касперля, это я давно уже понял.
— Не расстраивайся, — добавил Лютас, — там были только приличные люди. Крутые игроки. Об этих людях ты читаешь в колонке светских новостей, старик.
— Это утешает.
— Твоего имени никто не знал. Актеры не в счет, они получили деньги и забыли все имена. Для игроков ты был участником по кличке Фалалей — неплохо, а? Я подумал, что тебе понравится.
— Главное, чтобы тебе нравилось, — сказал я, подумав, что литовский юмор мне все-таки чужд.
— Люди делали ставки на время, на точную дату, на тот момент, когда ты сообразишь, что сидишь в незапертой камере, повернешь ручку два раза и выйдешь на волю. Но ты все сидел и сидел, будто приклеенный, писал свои заметочки с утра до вечера, я даже беспокоиться начал, — он вздохнул и облокотился спиной на перила, в том месте, где дубовый столбик был заменен и держался на честном слове, и я невольно схватил его за рукав:
— Просто меня было за что сажать, а ты этого не знал. Ты всегда считал меня слабаком, фалалеем, а я за неделю до прихода твоих поддельных полицейских ограбил галерею в Эшториле. То есть не ограбил, а только начал грабить — вырубил систему и залез в кабинет хозяина.
— А что же не ограбил?
— Это еще не все, — сказал я, оставляя вопрос без ответа. — Я ждал ареста со дня на день, потому что связался с делом о шантаже, делом с ограблением и — как я тогда думал — делом об убийстве. Когда за мной пришли, я и глазом не моргнул, потому что ждал их уже давно. Я только не знал, какое из моих преступлений они имеют в виду. А потом мне показали твои босые ноги в морге.
— Да, это была моя идея, — он зевнул и похлопал себя ладонью по губам. — Однако ты меня немного разозлил, с такой легкостью поверив в мою смерть. Может, она тебя порадовала? Признавайся, мы все равно больше не увидимся.
— Лучше скажи, кто сорвал банк в этом вашем тотализаторе? — я сам удивлялся своему спокойствию. — Чем кончилась большая игра для богатых?
— Кончилось тем, что время аренды подошло к концу, здание нужно было освобождать, и мы бросили тебя одного. Будь моя воля, ты бы там до Апокалипсиса сидел. Уж очень мне нравилось потихоньку читать твой дневник.
* * *
Артамоны едят лимоны, а мы, молодцы, едим огурцы.
Тетка сказала мне, что Зеппо утонул, когда мы с ней виделись в последний раз, до этого она говорила о нем, как о живом, впрочем, я такое и раньше встречал — моя мать говорила о своем приемном отце «он говорит», «он скажет», как будто он мог вот-вот выйти из своей комнаты.
— Зеппо утонул, — сказала тетка, — вернее, его утопили. Я узнала об этом несколько лет спустя, встретила его приятеля, музейного сторожа в Беналмадене, у него там был футбольный бар с огромным телевизором. Зеппо столкнули с моста через озеро Рулес, там большая плотина, я потом ездила туда посмотреть: вода вырывается из трубы с такой силой, что похожа на белую, упругую, до конца раскрывшуюся хризантему.
В тот день мы сидели на кухне, пили привезенный теткой ром и говорили шепотом, потому что у нее болело горло и еще потому, что мать торчала в столовой, делая вид, что заполняет больничный журнал. Тетка медленно стругала имбирный корень в чашку, я же сидел у ее ног, словно паж с эскуриальского манускрипта. Больше сидеть было не на чем — кухонные стулья Гокас вынес в сарай, чтобы поменять вконец истлевшую обивку, да там и бросил.
— Эти люди были должны ему деньги или, наоборот, хотели получить долг с него, я так и не поняла толком, — прошептала тетка. — Бывший сторож явно не хотел поддерживать разговор, даже пытался сделать вид, что меня не узнал. Глядя с моста вниз, на бурлящую воду, я подумала, что тело Зеппо разорвалось в ней на тысячу мелких кусочков, и еще я думала, что это не такая уж плохая смерть. Та, что ожидает меня, гораздо грубее и незатейливее.
Мудак, мудак. Почему я не мог найти десяти минут, чтобы позвонить ей, набрав номер под барной стойкой вишневого дерева — так я звонил китаисту в Эстонию, в аспирантское общежитие, где его долго и звучно выкликали соседи на этаже. Когда же тетка позвонила мне сама, я говорил коротко и безучастно — торопился на свидание в кладовке, где, раскинувшись на дерюжных мешках из-под сахара, меня дожидалась голая, тяжелая, будто кистеперая рыба, напарница Чеся. В тот день я слышал теткин голос в последний раз. Однажды, перебрав коньяку, я рассказал об этом Лилиенталю, и он посмотрел на меня с удивлением:
— Натурально, пако, всегда бывает последний раз. Может быть, мы тоже говорим в последний раз и больше ты не увидишь ни меня, ни этого коньяка, ни стола, на который закинул ноги в заляпанных грязью ботинках. Ребенку ясно, что смерть связана с сегодняшним днем больше, чем со вчерашним или завтрашним: сегодня ты еще можешь умереть, а вчера уже нет.