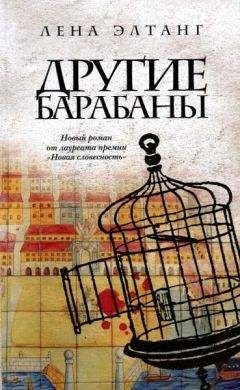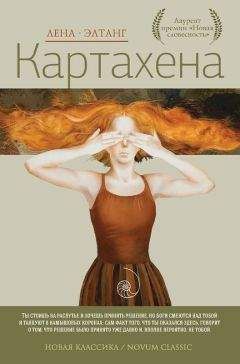— Да мне бы самому не пришло, — Лютас сел рядом со мной и принялся разглядывать ногти. — Это затея клуба, они вечно на что-то ставят, в прошлый раз поставили на мужика, который за неделю съел собрание сочинений Чарльза Диккенса.
— Я читал в сети, что один парень за десять долларов откусил голову живой ящерице.
— А теперь представь, что можно сделать за сто тысяч раз по десять. На тебя приходили посмотреть те, кто проиграл: те, кто поставил на первую неделю, на вторую, на сорок пятый день и так далее. Они говорили, что ты выглядишь спокойным, как пациент альпийского санатория. Меня даже заподозрили в том, что я слил тебе информацию и сам сделал ставку, хотя по правилам игры не имел на это права. Но я-то знаю, что не сливал. Почему же ты так долго сидел?
— Я мог там писать, вот и сидел. Сидел же Пруст в комнате, где стены были обиты пробкой. Кстати, ты мог бы расщедриться и на кофе, охранник приносил какую-то целлюлозную муть, заваренную в ковшике, и обдирал меня как липку. Даже за сахар брал отдельно!
— А чего ты ждал от безработного актера? Слушай, не заговаривай мне зубы, — он спрыгнул с окна и подошел к зеркалу. — Мне надо забрать свои комиссионные. И поделиться с тобой, разумеется.
Увидеть кого-то в зеркале, стоя за его спиной — плохая примета. Так я увидел тетку — за два года до ее смерти, — когда она поправляла волосы в какой-то вильнюсской лавке. А теперь увидел хмурое лицо Лютаса в зеленоватом стекле, когда стоял у него за плечом. Пока он возился с рычагом и набирал пароль, сверяясь с бумажкой, я думал о том, что я стану делать, когда сейф распахнется.
Еще я думал о том, что мне на удивление приятно слышать литовскую речь, даже жаль, что, когда Лютас уйдет, я ее долго не услышу. Почему-то я был уверен, что он сразу уйдет, увидев, что его дупло опустело. Но он не ушел.
* * *
Мы созданы из вещества того же, что наши сны.
Дверь на первом этаже хлопнула, сквозняк пошевелил занавески в спальне, где мы стояли перед пустым сейфом, и звякнул гранеными подвесками люстры. Лютас поежился, обхватил себя руками, как будто внезапно замерз, и повернулся ко мне:
— Ты сейчас вернешь мне то, что здесь было, верно, Костас? Слушай, бросай эти шутки, я и так две ночи не спал. Я готов отдать тебе четверть, это неплохие деньги, особенно в твоем нынешнем положении. Считай, что ты их заработал.
Я стоял перед ним молча и прислушивался к шагам Агне: вот она вышла из спальни, вот стукнула чем-то в кухне, теперь поднимается по лестнице, но нет — прошла наверх, в мансарду. Я мог сказать Лютасу, что деньги спрятаны в комнате сестры и что, скорее всего, она просто положила банкноты под подушку или сунула в пеленки своему младенцу. Мог, но не сказал.
— Поверь, старичок, если бы я знал, что они с тобой делают, эти местные жулики, венгр и его девчонка, то придумал бы другую историю, а то как-то монотонно получилось — и тут подлог, и там подлог. Два поддельных трупа, как в номере индийского факира с пилой! Но я ведь не знал, я действовал наобум. Wer hätte das geglaubt!
— Я в этом не уверен.
— Ты сам написал, что у тебя неприятности с полицией, и назначил встречу в Эшториле, это так удобно вписывалось в сценарий! Я просто должен был умереть в тамошних скалах и лишить тебя возможности отвертеться. Ты оказался в нужном месте в нужное время, без единого шанса оправдаться — и все благодаря какому-то венгру, действовавшему со мной заодно и не знавшему об этом. Когда я стал приходить в камеру и читать твой дневник, то сразу понял, что тебя развели, как младенца, и все ждал, когда же умника Кайриса осенит, но так и не дождался. Отпустить тебя я не мог, речь шла о слишком больших деньгах. Напиши об этом роман, и никто не поверит.
— Я уже написал.
— С тебя станется. Ладно, хватит болтать, отдавай Papiergeld, или я сам пойду искать. Если деньги в доме — а они в доме! — то найти их не так уж сложно. Ты не тот, кто понесет добычу в банк, нет — ты засунул их в ямку, под стекло, вместе с останками майского жука. Уж я-то тебя знаю.
Лютас подождал еще немного, покачиваясь с носка на пятку, потом помотал головой, потер кулаками покрасневшие глаза и пошел искать. Он искал несколько часов, а я сидел в столовой и листал забытую Агне книжку. В доме было тихо, сестра куда-то подевалась, затаилась или заснула, слышно было только, как мой друг, вернувшийся из подземного мира, выдвигает ящики комодов и хлопает дверцами шкафов. Несколько раз до меня донеслись его приглушенные ругательства — о, полузабытая, шерстяная, ужом струящаяся литовская речь! — потом он перешел в комнату тетки, и теперь я слышал только торопливые шаги у себя над головой. Чуть позже знакомо звякнула щеколда, что-то железное покатилось по плиточному полу, и я понял, что Лютас дошел до шкафов в мансарде — свет там был тусклым, зато пыли предостаточно. Я вспомнил, как Лилиенталь выговаривал Байше за нерадивость, заведя ее в кладовку и торжествующе держа двумя пальцами плюшевую мышь, которую сам же туда и подложил неделю назад.
— Совсем она у тебя распустилась, — сказал он тогда. — Слуги чувствуют безответность и радостно идут на нее, будто кошки на запах полежавшей рыбы. Видел бы ты свою улыбочку, когда ты с ней разговариваешь, вид у тебя точь-в-точь как у барского сынка, утешающего беременную горничную. Со слугами нужно говорить без экивоков и требовать с них жестко, как с близких друзей, или вообще их не заводить. Это, кстати, и друзей касается.
Лютас прошел мимо открытой двери столовой, даже не поглядев на меня, волосы у него были серыми от пыли, а белая рубашка покрылась сомнительными пятнами. Его целью явно была кухня, и я приготовился к грохоту сковородок и шороху рассыпанной по полу крупы, но вместо этого раздалось радостное восклицание, что-то вроде «Jaja!», и через минуту глухо стукнула откинутая крышка подвального люка. А потом я услышал какой-то домашний, мягкий, но тревожный звук: как если бы гигантской выбивалкой шлепнули по гигантскому ковру.
После этого стало совсем тихо, и я забеспокоился.
То есть я подумал, конечно, что Лютас мог свалиться в погреб, тем более что вторая ступенька давно держалась на честном слове, но ушибиться так сильно, чтобы затихнуть, там было никак невозможно: каменное дно плотно покрывали свернутые в рулоны ковры, четыре здоровенных ковра, я их сам туда оттащил, отчаявшись продать, давно, еще прошлой зимой. Персидский голубой был проеден молью, зеленый — выцвел, а два оставшихся просто не представляли никакой ценности. Ковры пришлось окропить камфарой, туго свернуть и прихватить шпагатом, они заняли собой весь пол и громоздились один на другом, словно физкультурные маты в школьной подсобке.
Я подождал минут пять, из кухни не доносилось ни звука, зато в парадной гулко хлопнула дверь, и я подумал, что сегодня день сквозняков, выдвинутых ящиков и парусящих на ветру занавесок День вселенского обыска, не хватает только грязного пуха из перин и соседей с виноватыми усмешками. Кто-то медленно шел по лестнице, насвистывая «Se eu bailar no meu batel», и на какое-то мгновение я поверил, что это может быть Байша, вернувшаяся за бутылкой хорошего порто.
— Хозяин, что это у вас тут происходит? — сказала бы она, уперев руки с золочеными ногтями в бока, обтянутые красной блузкой. — Прямо на минуту оставить нельзя.
Перед нашей дверью шаги затихли. Нет, это была не Байша, у нее свои ключи, а человек открыл только уличную дверь, это можно и шпилькой сделать. Наш гость может оказаться и полицейским, подумал я, дом ведь стоит на муниципальном учете, дверь была опечатана, и мы с сестрой находимся здесь незаконно. Самое время спуститься вниз по пожарной лестнице, обойти дом со стороны переулка Себаштиану и сделать вид, что только что пришел.
Я поднялся с кресла, закрыл книгу и помедлил, раздумывая, что сделать сначала — посмотреть на гостя или протянуть руку свалившемуся в ловушку лису Раубе. Поскольку в дверь не звонили, я махнул рукой и пошел в кухню, где посреди пола зияла темная дыра, из которой когда-то появлялся Фабиу, держащий бутылки в обеих руках, за горлышки, будто подстреленных уток. Склонившись над дырой, я увидел своего друга, лежащего там внизу, на мягких коврах, будто ребенок в темном чреве матери, подтянув колени к подбородку и закрыв лицо руками.
— Эй, — я позвал его, приложив ладони ко рту, и услышал короткое слабое эхо, всегда вызывавшее у меня недоумение: откуда оно берется в земляной пещере глубиной с два человеческих роста? Одна из стен погреба была выложена круглыми, вечно мокрыми камнями, наверное, там оно и таилось, фамильное эхо дома Брага, скучающее по запасам выпивки и тяжелым окорокам, перевитым шершавой веревкой. Две другие стены были построены позднее, когда просторный купеческий дом на Терейро до Паго разделили на четыре дома поменьше, а в самом крайнем открыли представительство пароходной компании. Контора и сейчас там, даже вывеска старая осталась «compãnia naviera», а над ними была квартира с балконом, где жила девушка-йогиня, которой я любовался каждое лето, пока она не съехала.