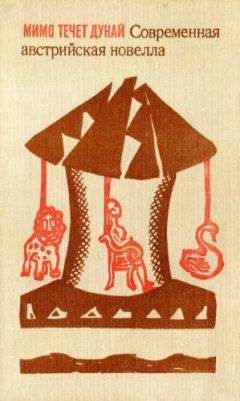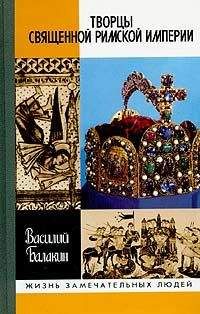О чем эти мысли, я не знала. Порой я вообще сомневалась, что у нее есть какие-то мысли, настолько неподвижным было ее лицо. Она охотно играла с Анеттой, и Анетта мало-помалу начала отвечать благосклонностью на благосклонность. Вольфганг лишь издали наблюдал за ней, и взгляд его выражал одновременно любопытство, застенчивость и предубеждение. Он и в этом был совершенно мой сын — ему бы и в голову не пришло сблизиться с посторонним человеком. Когда я поняла, что мне так и не удастся выработать правильное отношение к Стелле, я оставила всякое попечение о ней, начала вести себя, как встарь, когда у нас в доме не было никаких девушек. Правда, присутствие Стеллы по-прежнему тяготило меня, но я помнила, что мне недолго придется терпеть. Я всегда держалась со Стеллой очень приветливо, так же как приветлива со своей служанкой, почтальоном или одноклассниками Вольфганга.
Я вернулась к своим прежним раздумьям, снова начала расхаживать от одного окна к другому, либо с сигаретой, либо упрятав руки в рукава, и глядеть в сад, уже облетевший. Я покупала цветы, которые с каждым днем становились все дороже из-за холодов, я исправно ходила гулять с Анеттой, беседовала с Вольфгангом о книгах, которые тот по-прежнему глотал, хотя, наверно, далеко не все были для него подходящим чтением. Я, разумеется, вела хозяйство и сердилась на Анетту за то, что она ленива и распущена в школе, и, как заведено, обсуждала с Рихардом все вопросы, касающиеся детей и хозяйства. Но это делалось бездумно, по привычке, а истинная жизнь была в стоянии-у-окна, в беспокойной ходьбе по дому и в чувстве теплоты, когда глядишь на Вольфганга.
Несколько лет назад со мной произошло нечто низведшее меня до уровня автомата; автомат исправно выполняет свои обязанности, почти не знает страданий и лишь на короткие мгновения принимает прежний облик женщины молодой и полной жизни. Трогательная линия шеи у Вольфганга, розы в белой вазочке, сквозняк, вздувающий занавески, — и вдруг я сознаю, что покамест еще жива.
И еще одно наполняет меня страхом, наполняет ужасом, чувством, будто уже в ближайшую секунду что-то ринется на меня и разрушит невидимую стену.
Страхи мои напрасны, я понимаю, но снова и снова это возвращается ко мне, смотрит на меня с незнакомых лиц на улице, поднимается ко мне собачьим воем, бьет в нос запахом крови в лавке у мясника, трогает меня ледяными пальцами, когда я вижу круглое и добродушное лицо Рихарда.
Да, должно быть, что-то произошло со мной несколько лет назад, и с тех пор я боюсь, что мне не вынести непостижимое для моего ума и сердца единство добра и зла. Чтобы вынести это знание, нужна исполинская сила. Но исполины не попадают в такое положение. Исполинская сила избавляет от необходимости думать. Исполины предпочитают жить. Во все времена думающие принуждены отказываться от жизни, а живущим незачем думать. Спасительный шаг никогда не будет сделан, ибо тот, у кого хватило бы сил, не знает, что его нужно сделать, а знающий не способен к действию.
Стелла была из тех, кто живет. Она скорей походила на крупную, серую кошку или на молодое деревцо, чем на человека. Безгрешная и бездумная, сидела она за нашим столом, дожидаясь своей судьбы. Рихарду достаточно было протянуть руку, чтобы обхватить ее смуглое запястье. Он не протягивал руки, но зато улыбался и с довольным и спокойным видом разрезал мясо на своей тарелке.
Рихард — предатель по натуре. Природа даровала ему тело, способное к непрерывному наслаждению, и он мог бы жить в свое удовольствие, если бы та же природа не наделила его блистательным разумом. Именно разум и обращает в подлость все деяния его наслаждающегося тела. Рихард поистине выродок, он заботливый семьянин, популярный адвокат, страстный любовник, он предатель, лжец и убийца.
Все это я знаю уже много лет и, если бы знала, по чьей вине я это знаю, убила бы того человека.
Раньше я считала, что во всем виноват Рихард, и возненавидела его. Но уже давным-давно я поняла: Рихард не виноват, что я таким образом воспринимаю самый факт его существования. На свете много ему подобных, и весь свет это прекрасно знает, и мирится с этим, и не затевает историй. По чьей вине я не могу мириться, как другие? Медленно, но неуклонно покидает меня надежда, что в один прекрасный день виновный предстанет передо мной, а если даже он и предстанет, я все равно не буду знать, как с ним поступить. Гнев мой давно развеялся, остался лишь ужас, целиком завладевший мною, обступивший меня со всех сторон, как отравленный воздух. Ужас проник в меня, пропитал меня насквозь, сопровождает меня повсюду. Выхода нет. И больше всего пугает меня мысль, что даже сама смерть недостаточно смертельна, чтобы положить ему предел.
Но и самый ужас и знание правды, которую не следует знать, в конце концов включены в распорядок будней. И я судорожно цепляюсь за этот распорядок, за поданный вовремя обед, за повседневную работу, за гостей и за прогулки. Я люблю этот распорядок, ибо только благодаря ему я могу жить.
Однажды я вдруг заметила, с каким трогательным безразличием носит Стелла свои платья — эти коричневые, темно-красные и лиловые убожества, которые либо узки, либо широки ей и одинаково свидетельствуют о злобном нраве Луизы.
— Если купить ей приличное платье, — сказала я Рихарду, — она бы у нас стала красавицей.
Он оторвал взгляд от газеты, удивленно поглядел на меня и спросил:
— Ты думаешь?
Я знала, что он питает слабость к изящным, элегантным женщинам, и продолжала расхваливать Стеллу. Рихард только смеялся и сострадательно покачивал головой, а под конец сказал, что мы не обязаны покупать Стелле платья. Через два года она вступит во владение аптекой и начнет прилично одеваться.
— Луиза — чудовище, — сказала я.
Рихард с комическим удивлением пожал плечами и расхохотался. И вдруг меня осенило. А что, если уговорить Стеллу заняться своими туалетами? Я закрыла глаза и представила себе, как она в белом платье спускается по лестнице, пухлые губы улыбаются, рыжеватые волосы блестят, и вся она гибкая и молодая, красивая и соблазнительная. Я взглянула на белые уверенные руки Рихарда, державшие газету, и почувствовала странное удовольствие при мысли, что Рихард с его пристрастием к искусственным и утонченным прелестям, не способен вообразить эту красоту.
На следующей неделе в дом явилась портниха и сшила для Стеллы несколько платьев из недорогой материи, но светлых тонов, как и подобает молодой девушке.
Превращение оказалось полным. Стелла подошла к зеркалу и впервые увидела себя.
— А ты красивая, — сказала я ей и поправила складку на платье.
Она даже не глянула в мою сторону. Не отрывая глаз от зеркала, удивленная, растерянная и всецело захваченная новым чувством, которое пробудили в ней мои слова и собственное отражение в зеркале, она с серьезным видом повторила:
— Я красивая.
И еще раз:
— Я красивая.
Я имела право торжествовать победу, мы обвели злобного дракона — Луизу — вокруг пальца. Может статься, преображенная Стелла привезет домой жениха, который проследит за тем, чтобы впредь состояние Стеллы не проматывалось на Луизины платья, шляпки и любовников. И эта мысль доставляла мне радость — сама не знаю почему. Собственно говоря, я никогда не радовалась победе, победа скорее повергает меня в смущение, а то и в печаль, легкую, но мучительную печаль. Может быть, дело в том, что моя победа неизбежно означает чье-то поражение, я ставлю себя на место побежденного и разделяю с ним его скорбь. Но Луизу я ненавидела до такой степени, что победа над ней едва ли огорчила бы меня. Нет, радость мою омрачало лицо Стеллы в зеркале, это сияющее лицо, эта молодая, цветущая плоть и покорный взгляд, озаренный новым блеском. Мне стало как-то не по себе. Девочка Стелла прекратила свое существование. У нее в груди образовалась пустота, куда неизбежно хлынет мирская суета, — вот что меня смущало, ибо не в моей власти управлять потоком, который заполнит эту пустоту.
— Стелла, — поспешно спросила я, — Стелла, а разве тебе ничего не задали на сегодня по стенографии?
Трогательным детским движением она закрыла ладонью глаза и повернулась ко мне. Руки у нее упали, блеск в глазах угас, со вздохом она пошла к дверям.
В этот вечер Рихард еще не заметил, что перед ним сидит новая Стелла. Зато Анетта заметила и Вольфганг тоже, он задумчиво и вопросительно поглядывал на меня.
А Стелла, в платье земляничного цвета, почти ничего не ела и мечтательно глядела перед собой. Еще не ведая разлада со своим здоровым, молодым телом, она самозабвенно прихлебывала чай маленькими глотками.
Птенец все еще сидит на липе. За всю ночь он не сдвинулся с места. Он больше не кричит, а только попискивает. Если запереть окно, его совсем не слышно. Он стал такой крохотный, его даже птенцом не назовешь. Мать не прилетела и, боюсь, уже никогда не прилетит.