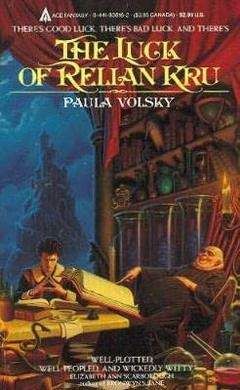— Послушай, — сказал Джейкоб.
Это был сногсшибательный довод.
Есть люди, которые могут проследить за каждым шагом пути, да еще в конце сделать маленький, хотя бы шестидюймовый шажок самостоятельно, другие же всю жизнь только наблюдают за внешними проявлениями.
Уставятся на кочергу, правая рука берет кочергу, поднимает, медленно ее поворачивает, а затем очень аккуратно ставит на место. Левая рука, лежащая на колене, играет какой-то величавый, но прерывающийся марш. Глубокий вдох, и воздух, никак не использованный, улетучивается. Кошка ступает по коврику у камина. На нее никто не смотрит.
— Вот примерно так я это себе представляю, — заключил Даррант.
Следующую минуту стоит гробовое молчание.
— Значит… — сказал Джейкоб.
Затем последовала только половина фразы, но эти половины фраз как сигнальные флажки на крышах зданий для того, кто, стоя внизу, наблюдает за внешними событиями. И что такое корнуолльское побережье с его запахом фиалок, и знаками траура, и безмятежным благочестием — оно всего лишь фон, случайно оказавшийся сзади, от которого оттолкнулся ум.
— Значит… — сказал Джейкоб.
— Да, — ответил Тимми подумав, — это так.
Тут Джейкоб принялся нырять, отчасти чтобы поразмяться, отчасти, вне всякого сомнения, просто от радости, потому что, когда он сворачивал парус и вытирал тарелки, с его губ слетали весьма странные звуки — хриплые, немузыкальные, — некое подобие победной песни, потому что он нашел такой замечательный довод и вышел победителем — загорелый, небритый, способный к тому же отправиться в кругосветное путешествие на десятитонной яхте, что, очень может быть, он вскоре и сделает, вместо того чтобы засесть в какой-нибудь юридической конторе и носить коротенькие гетры.
— Наш друг Мэшем, — сказал Тимми Даррант, — не хотел бы, чтобы его кто-нибудь застал в нашем обществе, когда мы в таком виде.
У него отлетели все пуговицы.
— Ты знаешь тетку Мэшема? — спросил Джейкоб.
— Никогда не слыхал, что у него есть тетка, — ответил Тимми.
— У Мэшема миллион теток, — сказал Джейкоб.
— Мэшем есть в «Книге Страшного суда», — сказал Тимми.
— Вместе со своими тетками, — добавил Джейкоб.
— Его сестра, — проговорил Тимми, — очень хорошенькая девочка.
— Вот что тебя ждет, Тимми, — сказал Джейкоб.
— Тебя первого, — ответил Тимми.
— Но эта женщина, о которой я тебе рассказываю, тетка Мэшема…
— Ну, так что же? — спросил Тимми, потому что Джейкоб от хохота не мог вымолвить ни слова.
— Тетка Мэшема…
Теперь Тимми не мог говорить от хохота.
— Тетка Мэшема…
— И что в этом Мэшеме такого, отчего делается так смешно? — еле выговорил Тимми.
— Да ну его — человек, который проглотил булавку от галстука, — сказал Джейкоб.
— Он к пятидесяти годам будет лордом-канцлером, — заявил Тимми.
— Он — джентльмен, — согласился Джейкоб.
— Герцог Веллингтонский — вот был джентльмен, — сказал Тимми.
— А Китс — нет.
— А лорд Солсбери — да.
— А как насчет Господа Бога? — спросил Джейкоб.
Сейчас казалось, что на острова Силли указывает золотой палец, выходящий из облака, а кому не известно, что это необыкновенное зрелище и что эти широкие лучи, светят ли они на острова Силли или на гробницы крестоносцев в соборах, всегда сотрясают самые основы скептицизма и ведут к шуточкам по поводу Господа.
Со много будь;
Вечернею порой
Ложатся тени;
Боже, будь со мной,—
пропел Тимми Даррант.
— А у нас был гимн, который начинался:
Господь, что вижу я, что слышу? —
сказал Джейкоб.
Чайки, легонько раскачиваясь, сидели на волнах по две и по три совсем рядом с лодкой; баклан, будто устремившись за своей длинной шеей, вытянувшейся от вечных поисков, перелетел, почти задевая воду, к соседней скале, а издалека доносилось гудение прилива в пещерах, похожее на тихий монотонный голос, разговаривающий сам с собой.
О, Иисус, скала веков,
Дай в Тебе сыскать мне кров,—
пропел Джейкоб.
Словно тупой зуб какого-нибудь чудовища, скала рассекала поверхность моря, вся коричневая, затопляемая неиссякаемыми водопадами.
пел Джейкоб, лежа на спине, глядя в полуденное небо, с которого исчезли последние клочья облаков, как будто отдернули занавеску и выставили его, наконец, для постоянного обозрения.
К шести часам подул ветерок с ледников; к семи вода стала скорее лиловой, чем синей, а к половине восьмого пространство вокруг островов Силли сделалось похоже на шершавую кожу золотобойца, и лицо Дарранта, который сидел у руля, было цвета красной лаковой коробочки, отполированной на века. К девяти все пламя и волнение на небе улеглось, оставив только ярко-зеленые клинышки и бледно-желтые залысины, а к десяти на волнах, то распластывающихся, то горбящихся, задрожали, вытягиваясь и сжимаясь, разноцветные пятна от фонарей с лодки. Луч маяка быстро пробежал по воде. На расстоянии бесчисленных миллионов миль поблескивали рассыпанные звезды, а волны шлепались о лодку и, грохоча, с размеренной и жуткой торжественностью обрушивались на скалы.
Хотя, вероятно, можно постучаться в домик и попросить стакан молока, однако лишь сильная жажда способна подвигнуть на вторжение. А миссис Паско, пожалуй, была бы ему только рада. Летний день, наверное, тянется медленно. Стирая у себя в судомойне, она, должно быть, слышит дешевые часики, стоящие на полке над камином, тик-так, тик-так, тик-так… Она одна в доме. Муж пошел помогать фермеру Хоскену, дочка замужем и живет в Америке. У старшего сына тоже семья, но с его женой у нее нелады. Однажды пришел священник-методист и увел с собой младшего. Она одна в доме. Пароход, очевидно направляющийся в Кардифф, сейчас пересекает горизонт, а совсем рядом раскачивается туда-сюда колокольчик наперстянки, в котором вместо языка гудит шмель.
Эти белые корнуолльские домики построены на краю утеса, земля здесь охотнее растит можжевельник, чем капусту, а вместо изгороди какой-то первобытный человек накидал кучу валунов. В одном из них, предназначенном, как полагают историки, для крови жертвы, было выдолблено углубление, которое в наши дни смиренно служит сиденьем для туристов, жаждущих найти ничем не заслоненный вид на Голову Морского Петуха. Разумеется, синее ситцевое платье и белый передник в саду никому не мешают.
— Смотри, воду ей приходится носить из колодца.
— Зимой здесь, должно быть, страшно одиноко, ветер гуляет по холмам, волны бьются о скалы.
Даже в летний день слышен их плеск.
Набрав воды, миссис Паско пошла в дом. Туристы пожалели, что не захватили бинокля, а то можно было бы прочесть название проходящего мимо случайного парохода. Вообще, в столь ясный день казалось, нет ничего такого, что нельзя разглядеть в обыкновенный полевой бинокль. Два рыбачьих судна, скорей всего из залива Сент-Айвз, удалялись от парохода, а дно моря становилось то отчетливо различимым, то матовым. Шмель, насосавшись вдоволь меду, перелетел на ворсянку, а оттуда прямиком на участок миссис Паско, что заставило туристов еще раз посмотреть на старухино ситцевое платье и белый передник, потому что она вышла на порог своего дома и стояла там.
Она стояла, заслонив глаза от солнца рукой, и глядела на море.
В миллионный раз, наверное, она глядела на море. Бабочка «павлиний глаз» распласталась на ворсянке, яркая и только что появившаяся на свет, о чем свидетельствовали синие и шоколадные пятнышки на крыльях. Миссис Паско зашла в дом, взяла там кружку из-под сливок, вышла и принялась ее отдраивать. Лицо ее, безусловно, не было ласковым, чувственным или порочным, но скорее жестким, мудрым, здоровым, и в комнате, полной разных утонченных людей, символизировало бы плоть и кровь жизни. Конечно, лгать ей случалось не реже, чем говорить правду. За нею на стене висел большой высушенный скат. А в маленькой гостиной в глубине дома хранилось самое дорогое — коврики, фарфоровые кружки и фотографии, хотя от соленых ветров эта обшарпанная комнатка защищена лишь одним слоем кирпичей, и сквозь кружевные занавески видно, как камнем летит вниз баклан, а когда штормит, трепещущие чайки рассекают воздух и огни пароходов оказываются то высоко, то низко. Унылые звуки раздаются здесь зимними вечерами.
По воскресеньям приносят газеты с картинками, и она долго изучает венчанье леди Цинтии в Вестминстерском аббатстве. Ей тоже хотелось бы ездить в карете на рессорах. Нежные быстрые переливы культурной речи заставляют ее стыдиться своего грубого выговора. Да и слушать всю ночь напролет, как скрежещет о скалы Атлантический океан, вместо перестука двухколесных экипажей и свиста швейцаров, подзывающих автомобили… Так, наверное, она размышляет, отдраивая кружку из-под сливок. Но все разговорчивые и сообразительные люди давно уехали в город. А она, как скупец, прячет свои чувства в груди. За все эти годы она не разменяла ни монетки, и завистливому взгляду кажется, что внутри у нее чистое золото.