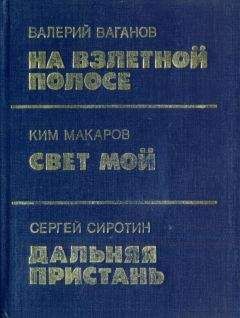Свиридов кашлянул, тяжело поднялся со стула.
— Я пойду, папа. Скоро обход.
— Иди, Владик, отдыхай. Приходи утром. Вечером мне всегда получше. — Отец слабо шевельнул рукой, бязевый рукав был закатан выше локтя. — Иди.
На улице было тихо. Крупные хлопья летели из серой, пропасти неба, редкие фонари то вспыхивали, то гасли. На заснеженной дороге черно и мокро блестели следы машин. Свиридов поднял воротник пальто, его знобило, сырой воздух насквозь пронизывал его.
Хозяйка отворила дверь, пропустила в сени.
— Снимай с себя, видишь, сколько навалило. Вот сюда. Садись к печке. Ну, как он там?
Свиридов рассказал.
— Ну, это хорошо. Бог даст — поправится. Чаю хочешь?..
…В салоне загорелась надпись, просили пристегнуть ремни. Сосед кряхтя повернулся, с трудом защелкнул пряжку.
— И как все кончилось? — спросил потом он.
— Вот, домой летим.
— А где отец-то?
— Там, — Свиридов махнул рукой в хвост самолета.
— С язвой редко теперь умирают. Научились резать. Встретят вас?
— Дал телеграмму. Приедут.
Самолет накренился в вираже, его несколько раз тряхнуло, и двигатели загудели ниже. Свиридов почувствовал, как проваливается под ним кресло, и кровь тяжело приливает к голове.
На земле они долго ждали, когда остановятся винты, невыносимо медленно тащился к самолету трап. Еще немного, чуть-чуть, успокаивал себя он, поднимаясь.
Сойдя с трапа, сосед чуть помедлил. Потом протянул Свиридову руку:
— Держи. Хотел на батю твоего взглянуть, да некогда. Всего вам!
Он быстро пропал, растворившись среди пассажиров, еще некоторое время покачивалась над головами его каракулевая шапка, потом и она исчезла. Вытянувшись в длинную цепочку, пассажиры шли к аэровокзалу. А навстречу им уже ехала грузовая машина с включенными фарами. Свиридов не выдержал, побежал к ней. Шофер узнал его, высунулся.
— Куда ставить?
Возле самолета уже было пусто, лишь стюардесса в накинутом пальтишке, поеживаясь, стояла рядом со Свиридовым. Потом открыли почтовый люк.
Грузчики, поругиваясь, перекидывали в кузов машины посылки и мешки с почтой, закончили быстро и хотели уезжать, когда из темного нутра кто-то крикнул: «Не все еще», — и смолкли сразу.
Свиридов залез к ним. Придерживая за края, они осторожно поставили на брезент большой деревянный ящик.
Через десять минут выгрузка была кончена, и машина тронулась. Скоро они отъехали от ярко освещенного аэропорта и лес подступил к дороге темной стеной.
Мела метель, белые космы снега стелились под колеса, вспыхивая и погасая, и казалось, что перед самой машиной кто-то перебегает дорогу.
Возле дома машину неожиданно тряхнуло, в кузове глухо стукнуло о передний борт. Свиридов вдруг сжался как от удара, и белая дорога перед ним расплылась, поползла радужными пятнами.
Ранняя весна гудела ровным ветром, позванивала капелью. Василий вышел из автобуса, пересек площадь. В стеклянной коробке аэропорта было многолюдно. Несли чемоданы, картонные ящики, апельсины в туго набитых авоськах, а над всем этим шумом плыл размеренный голос диктора, усталый и безразличный к суете.
Можно было, конечно, и не приезжать на аэродром, тесть не любил, когда его встречали. Подарки умещались в портфеле, в командировки он ездил часто и рассказывать было нечего. Но Василий все-таки приехал. Очень хотелось посмотреть на самолеты, когда они не высоко в небе, а рядом почти, за низенькой железной оградкой, и гудят на разные голоса. В такие минуты он чувствовал сердцебиение, тоску по далеким городам. Хотелось бежать к вагончику автопоезда, сесть на жесткое сиденье и ехать на посадку.
Самолет тестя опаздывал. Василий потолкался возле касс, потом поднялся на второй этаж, в зал ожидания. Сел в кресло, откинулся на мягкую спинку. Закрыл глаза. Ноги были тяжелы от утренней беготни. Он вдохнул в себя разные дорожные запахи, неуловимые, быстро сменяющиеся запахи временного пристанища нескольких сотен людей. Скрипнули сапоги, запахло крепкой ваксой. Прошли курсанты в новых шинелях. Лица их были розовы и возбуждены перед дорогой. И Василий пожалел, что сам не был в армии, а знал о ней только от друзей. Все они рассказывали по-разному, вспоминали смешные истории, он им не верил. Теперь, на двадцать восьмом году, как-то странно было жалеть об этом. Институт закончен, работа интересная, приятели, кино, театр в дни премьер, разговоры. А после разговоров всех, после долгого рабочего дня он писал. Василий писал рассказы. Сюжеты их были незатейливы, герои тоже, ни одной выдающейся личности. На страницах жили рыбаки, шоферы, грузчики. Они работали, ругались, спорили, судьбы их были просты и обыденны.
Когда не хватало Василию собственных наблюдений, он легко придумывал, эта легкость сначала пугала его, но потом он привык ставить себя на место героев, и возникала иллюзия правды. Порой он так увлекался, что казалось, все это было и у него — дальние дороги, стройки, прорабы, самосвалы и катера, и на какое-то мгновение он чувствовал себя всемогущим. На следующий день восемь часов за чертежной доской пролетали незаметно.
Одни рассказы он дотягивал до конца, перепечатывал после на машинке, а другие — их было больше — так и застревали где-то возле середины. Но те, неоконченные, обладали странным свойством не отпускать от себя, и Василий думал о них, как о близких людях, только уехавших надолго.
Друзья считали его увлечение блажью, чем-то вроде порочной наклонности, предсказывали, что пройдет, кто в юности стихов не писал или не коллекционировал марки.
Иногда к нему в комнату заходила жена, с усмешечкой наклонялась к столу, дышала Василию в затылок. Усмешечка бесила его, хотелось закричать, обидна была эта снисходительность, но он боялся потерять свой настрой, потому что без настроя дело останавливалось сразу.
— Ну, как твое рукоделие? — спрашивала она выпрямляясь.
— Так, понемногу.
— Это и плохо, Васенька…
Он знал, что за этими словами последует, и стискивал зубы.
Жена была доброй и мягкой, но как-то быстро сникла после замужества, домом занялась изо всех сил, а после домашних хлопот ее уже никуда не тянуло. Василий легко примирился с этим. И лишь когда речь шла о его будущем — жена становилась той, прежней Галкой Звягинцевой, капитаном институтской волейбольной команды, быстрой и решительной. Щеки ее вспыхивали, и она сразу занимала круговую оборону. О своем будущем Василий думать просто не хотел…
Движение и голоса в зале ожидания слились для него в сплошной гул, мягкий, как летний дождь. Гул проходил мимо, не отпечатываясь в памяти, но он уже знал, что в нужный момент память не подведет, вернет его в этот зал.
И Василий вспомнил, как утром, торопясь на работу, обогнал женщину с двумя малышами. Они уже сворачивали к детскому саду, но несколько фраз запомнилось.
— Мама, мама, а когда ты нам купишь папу?
— Зачем он нам нужен, пьяница такой.
— Мама, а ты купи хорошего.
На женщине было старенькое пальто, синий платок на глаза надвинут, шла она торопливо, тоже, наверное, опаздывала. Василий побежал дальше, скользя по льдистому тротуару.
И теперь он в который раз открыл для себя, что ничто не проходит без следа, только не упустить бы, не растерять. После пригодится.
Он многое оставлял на завтра, на будущее. И представлялось ему это будущее чередой долгих светлых дней, когда все будет получаться, и герои из неоконченных рассказов заговорят с ним без усмешечки, серьезно. Об этом никому не говорил Василий, даже жене, потому что ей требовались точные даты…
…Диктор сонным голосом объявил, что самолет из Москвы прибыл.
Алексей Николаевич появился в дверях неожиданно, чуть не столкнувшись с Василием.
— Васенька, здравствуй, милый. Вот славно, что приехал. Как догадался?
— Я в трест звонил. Сказали. Помочь?
— Поищи машину.
Василий побежал к стоянке такси. Тесть снова, в который раз, показался ему не таким, как дома, к которому он привык. Как молодо блестели его глаза после возвращения! Правда, резче обозначались мешки под глазами, но это не старило Алексея Николаевича, лишь давало повод теще жаловаться своим приятельницам: он ужасно много работает в командировках, я так боюсь за него.
На этот раз он купил себе шляпу, светло-серую, с короткими полями, и надел уже, шапку в портфель спрятал. И пахло от него московским многолюдьем, словно одеколоном, той легкостью, которая часто охватывает в начале апреля даже отцов взрослых дочерей.
Машина круто набирала скорость. Летели по сторонам скрюченные после зимы березки, снег на полях отяжелел, поблескивал твердой корочкой, а шоссе было сухим, темнело серым наезженным бетоном.
Алексей Николаевич закурил, надвинул шляпу на глаза, что придало ему вовсе легкомысленный вид, говорил не торопясь. Василий слушал его, пытаясь уловить недосказанное, но слова тестя ложились друг к другу плотно, как камни в древней пирамиде.