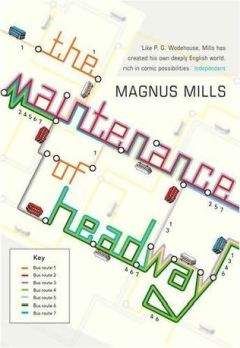«Она черная» — вот что я сказал себе, а женщина улыбкой ответила на мой вытянутый в ее сторону указательный палец. Правду сказать, мне никогда не приходилось на улице или в метро рассматривать чернокожую женщину с точки зрения того, хорошенькая она или нет. Даже когда я видел на экране американских актрис, например Холли Берри, мне в голову не приходило задуматься, представляются ли они мне желанными или нет. Так же как прежде мне никогда не приходило в голову пригласить домой кого-нибудь из черных одноклассников.
Но на эту женщину определенно было приятно смотреть. Чистая кожа, полные губы и правильные черты, лишь слегка нарушенные двумя довольно заметными морщинками вокруг рта. Мы обменялись рукопожатием. После нескольких секунд замешательства она протянула мне сложенный вчетверо тетрадный листок.
Чистый белый квадратик потряс меня. Я никак не мог установить связь между этим белоснежным листком и разодранной и обгоревшей одеждой Клемана, грудой сваленной судмедэкспертами в пластиковую корзину в зале полицейской префектуры, куда я пришел на опознание тела. Мне тут же вспомнились сотни тысяч документов и рекламных плакатов, летавших в синем небе в тот день, когда были взорваны башни-близнецы в Нью-Йорке. В грохоте и пепле они, словно осенние листья, плавно ложились на асфальт вокруг искореженных зданий. Я также вспомнил, как однажды, глядя из окна на движущуюся по стене здания колонию муравьев, Клеман спросил меня, умрет ли муравей, если упадет с пятнадцатого этажа.
Я развернул листок. Наверное, я впервые читал нечто написанное Клеманом не для школы. Насколько я знаю, он за всю жизнь не написал ни одной открытки, поскольку мне самому никогда не пришло бы в голову отправить кому-нибудь хоть одну, когда мы уезжали в отпуск.
Думаю, в 2009 году, на заре технологических перемен, о которых я даже не имел понятия, при свободе обмена эсэмэсками и чата со своими приятелями, Клеман, возможно, уже не видел достойных причин продолжать писать рукой.
Я тотчас узнал эти высокие буквы, такие узкие и корявые, ставшие его фирменным знаком еще в младших классах. Я видел их на самодельных открытках: «С праздником, папа» или «Папа, я люблю тебя», которые, как и все остальное: улиток из соленого теста и пробковые брелоки на магните для ключей, я, чтобы доставить ему удовольствие, прежде чем выбросить в мусорную корзину, два-три дня держал на своем письменном столе. Как всегда, вместо точек над «i» были эти кружочки, приводившие меня в отчаяние.
— Так делают только девчонки, — говорил я ему тоном скорее сердитым, нежели насмешливым, словно опасаясь, как бы подобный тип аффектации не предвещал гомосексуальных наклонностей. Я, который теоретически ничего не имел против однополой любви, как против черных или мусульман.
Вверху страницы он написал название: «Все жесть». Потом зачеркнул «Все» и оставил только одно слово, почему-то со строчной буквы.
жесть
Toxic Kougar 23.06.09 для альбома «365 дней»
1 куплет:
Мать задолбала при всех друганах
Девчонка отшила тебя отвали ты ботан!
Жесть!!
В футбик ты мажешь по воротам
У тебя крадут гигантские шары
Жесть!!
Ты хочешь сжать кулаки, воздух рвет грудь
Ты разгорячен и весь матч торчишь на скамейке
Жесть!!
Ты заставляешь себя отдубасить десятилетнего сопляка
Хочешь перескочить через загородку, падаешь, ломаешь себе зуб
Жесть!!
Я был озадачен. Разумеется, взволнован, но в некотором замешательстве. Это оказалось совсем не шифрованным посланием, пришедшим из загробного мира, в котором вам раскрылась бы потаенная сущность вашего ребенка. Ни особой нежности, ни серьезности в этих словах, ни внезапной задушевности. И ни намека на обращение ко мне, хотя я на это надеялся. Хуже того, он упоминал свою мать в качестве единственной родственной связи, словно я вообще не существую.
— Вам известно такое выражение — «жесть»? — спросил я у новой знакомой, протягивая листок.
Слегка склонив голову набок, она подошла ближе, и от ее движения вокруг разлился крепкий аромат крема для тела или лосьона для волос. Она взяла бумажку и, насупив внимательные брови, принялась читать.
— Что-то вроде, может, «гадость» или «позор», нет? — через некоторое время предположила она, подняв на меня глаза. Затем, снова склонившись к тексту, дочитала до конца и, вежливо улыбнувшись, протянула мне тетрадную страничку: — Во всяком случае, занятные вирши.
— Вы думаете?
Я перечитал еще раз. Действительно, не лишены лихости и юмора. Такое мальчишеское и неоскорбительное выражение гнева успокаивало меня, доказывало, что, вопреки видимости и моим опасениям, он не был несчастным ребенком.
— А гигантские шары — что это? — Я попытался улыбнуться.
— Вы не знаете? — Она оживилась, в свою очередь, с веселой снисходительностью. — Это большая круглая конфета вроде чупа-чупса, которая меняет вкус и запах, пока ее сосешь, с жевательной резинкой внутри.
Ее голос, растворяющийся в плотности воздуха и созвучный окружающему пейзажу, показался мне не таким низким, как по телефону. На миг мне даже захотелось закрыть глаза, чтобы вспомнить, как он звучал в первый раз. День снова обрушился мне на голову, но впервые после несчастного случая мне было легче. Не знаю почему, но в присутствии этой женщины я мог думать о Клемане без пронзительной боли. На этот раз мне не пришлось делать над собой усилие, чтобы улыбнуться ей:
— А вы-то откуда знаете?
По ее лицу пробежала внезапная тень сомнения. Сдержав короткий вздох, она помедлила, а потом решилась:
— Знаю, потому что у меня сын такого же возраста.
По телефону Франк еще раз повторил, чтобы я ничего не приносил, пришел бы запросто, с пустыми руками. Им с Лизой приятно повидаться со мной. Его голос звучал так мило, что я не нашел в себе смелости отказаться. Вот, наверное, что означает «близкие люди»: пара, от которой месяцами не дождешься вестей, да и вообще без особого выражения симпатии с вашей стороны, звонит после смерти вашего сына, чтобы заверить в своей дружбе. И без колебаний приносит себя в жертву, приглашая на ужин, чтобы обдать вас шквалом общительности и повернуть ваши мысли в другое русло.
Но уже в винном магазине я задумался, что я здесь делаю. Пытаюсь восстановить былой парижский автоматизм: принести хорошую бутылку, цветы или десерт, лишь бы принести что-нибудь и услышать от хозяйки дома: не стоило, все есть. Сделать вид, будто это может доставить вам удовольствие, будто почти в сорок лет может быть еще хоть что-нибудь новое: разговоры и натянутые улыбки после нескольких аперитивов, специально подобранная музыка в качестве звукового фона, пока не позовут к столу. А вскоре после полуночи, взглянув на часы, сказать: «Ну что ж, я думаю, мне пора. Завтра рано вставать. Все было супер, большое спасибо. В следующий раз у меня».
Как и положено, уже на лестнице пахло выпечкой. Я постучал, и Франк, с заранее запрограммированной улыбкой, обратно пропорциональной его смущению, открыл мне дверь. Любой его благожелательный порыв подспудно свидетельствовал о том, что до самой смерти нам уже не понять друг друга, как прежде, во времена моей невинности.
«В жизни драмы одних не обязательно становятся роковыми для других. Беречься от них — это нормально», — твердил я себе. Как удар под дых, действовала на меня царящая в этой квартире атмосфера беспечности. Все то, что мы начинаем накапливать к тридцати годам, чтобы создать себе продолжительное счастье: красивая мебель, продуманное освещение, ароматические свечи, хорошенькие фотографии в рамках на стенах, фирменные аксессуары, удачно расположенные комнаты и цветочные горшки на балконе.
Когда родился Клеман, мы с Элен жили на двадцати пяти квадратных метрах. Тогда нам казалось, что мы, конечно, не слишком богаты: она со своей докторской диссертацией, до завершения которой было еще далеко, и я со своей зарплатой, едва превосходящей минимальную. Зато, не вдаваясь в излишние расчеты, мы, такие романтичные, отважились родить ребенка.
Франк в то время с нуля начинал собственный бизнес; спустя пять лет он продаст его в восемьдесят раз дороже начальной стоимости. Получив свой капитал, еще через пять лет они с Лизой смогли родить ребенка.
Результат: я сегодня живу все в той же крохотной трехкомнатной квартире, снятой почти десять лет назад, а Франк, мой ровесник, имеющий такой же диплом, как у меня, папа — да, конечно, седеющий — маленькой двухлетней девочки. Но главное, он счастливый обладатель ста пятидесяти квадратных метров на Монмартре.
Когда мы уселись возле низкого столика в гостиной, я предпочел взять инициативу в свои руки.