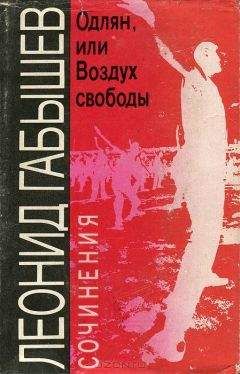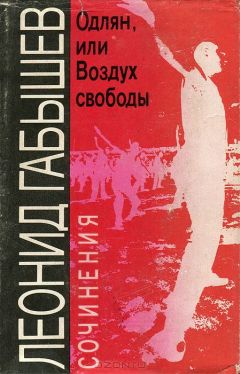Мама чуть ли не каждый день ходила на кладбище и подолгу лежала на могиле отца. Наступили холода, она простудилась. У нее поднялся жар, и ее отвезли в районную больницу. За мной стала ухаживать баба Шура. Вскоре мама умерла. Ее похоронили рядом с отцом. Я не хотел уходить с кладбища, и меня до саней несли на руках.
Головные боли усилились. Чтоб меньше вспоминал отца и мать, меня отвезли в райцентр, к тетке, сестре мамы. У тетки жил мой старший брат, Павел, он заканчивал среднюю школу.
Учился я хорошо, но по ночам слышался вой волков, звон колокольчика и рыдание мамы.
С наступлением темноты часто бывал не в своем уме. Тетя Даша плакала.
После восьмого класса дядька, брат отца, забрал меня в Москву, и я поступил в профтехучилище.
Столица ошеломила меня и обрадовала. Старинные особняки завораживали, московская толпа наводила ужас, и я в свободное время искал одиночества. Шумная Москва окончательно свела меня с ума, рассудок я стал терять и днем. Ребята в училище заметили это сразу. Но ростом и сложением я пошел в отца, и потому ребята умеренно со мной развлекались, дурачась на переменах, вызывая у окружающий смех. Некоторые в группе имели судимость, а Стас и срок тащил, небольшой, правда, год всего, но зато татуировок на теле наколол столько, что иной и десять отсидит, но у него меньше.
Парни, желая сравняться со Стасом, начали тоже свои тела похабить, выкалывая короны разные и кресты.
Я бывал на квартирах у местных, у ребят в общежитии и впитывал вместе с ними воровской жаргон, дивясь: какой богатый русский язык!
Стас в зоне в половой член две бобуши[30] вставил, но теперь мало показалось, и он загнал еще две. Парням понравились бобуши — как же, стал толще! — и полгруппы стали вставлять. Потом и мне предложили. Я согласился, и скоро мой член напоминал ошелушенную кукурузину. Ребята наперебой просили показать, как они у меня смотрятся, и балдели. Тут надо добавить: Бог наградил меня не только мышцами, но и мужским началом. Понял: ребята не просто бобуши разглядывают, а его, потому что он от корня все утолщающийся, и венчала его здоровенная голова, теперь красовавшаяся в обрамлении бобуш.
Стас из всеобщего любопытства решил выгоду поиметь: с ребят из других групп стал за погляд мелочь требовать, и они не отказывали, ссыпая пятаки ему в карман. Иные, отдав мелочовку, без обеда оставались, но требовали одного: чтоб смотреть не спящего, а бодрого, и Стас заходил в туалет с большой мухой, держа ее за лапки, и чуть пытал огнем, но осторожно, чтоб крылышки не обжечь. Муха, предчувствуя смерть, неистово жужжала, стараясь вырваться. Стас прислонял ее к моему концу, и он, под гогот пацанов, устремлялся ввысь. Стас перед началом представления всегда говорил одно и то же: «С такой елдой Жорка скоро поедет в ПОПЕНгаген через РОТРдам», и напевал песенку:
Ехал на ярмарку Ванька-холуй,
За три копейки показывал ху…
То ли в деревне глодарики сухать,
Поеду я в город девушек …
У нас в Васильевке жил Минька-дурак, и хоть сопляком был, помню, как пацаны постарше уговаривали его свое мужское достоинство показать. Он отнекивался, но если совали медяки, тут же расстегивал ширинку…
Парни продолжали свое тело похабить и как-то предложили мне сделать наколку. Согласился, и Стас, недолго думая, выколол мне на плече две огромные буквы SS.
— Эс-эс — это по-английски Жорка, Джордж, значит, — сказал он, и ребята по очереди пожали мне руку.
Как-то с дядькой пошли в баню, и он на плече заметил идиотскую наколку, а на половом органе пышные возвышения…
На другой день он не отпустил меня в училище, а пошел к директору и забрал документы.
У дядьки была огромная библиотека, и я много читал, при своем уме находясь. Когда разум тускнел, диковинных зверей, на планете не существующих, рисовал.
Я был спокойный дурак и не обременял родственников. Своих детей они вырастили и теперь мной занимались.
Много книг осилил, ума набирая и одновременно дурея. Если накатывало — блажил, забавляя грустных дядю и тетю.
Восемнадцать стукнуло, и родственники на овощную базу грузчиком устроили. По утрам вместе с московской толпой спешил на работу.
На базе приняли хорошо, понимая болезнь мою и безотказность. Для них я был клад: выполнял самую грязную и тяжелую работу, но зато, как и умные, набирал вечером для дома овощей. Поначалу робел брать казенное добро, но грузчики сказали:
— Бери, Жора, не стесняйся. Государственное — значит, наше.
В первый раз принес домой килограмма три лука.
На овощной базе отработал несколько лет, накачивая мышцы. Спиртного с ребятами не употреблял, как выпью — болит голова.
Все реже приходил в себя, и дядька отвез в психиатрическую больницу.
Дежурный врач расспросила у дяди, когда заболел, как кушаю и сплю, и занесла данные в больничную карту. Поглядев пустыми, равнодушными глазами, участливо спросила:
— Ну, Жора, как себя чувствуешь?
— Хорошо.
Отдавая историю болезни санитарам, коротко бросила:
— В наблюдательную!
Два толстозадых мордоворота повели меня по больничному коридору. Заведя в душ, сказали: «Мойся», — и встали у дверей.
Окропив волосы струйкой ледяной воды, надел синие, в хлорных разводьях трусы, разорванную по груди майку, стоптанные шлепанцы, полосатую пижаму, и меня повели дальше.
Звякнул ключ-трехгранник, отворилась дверь, и я шагнул в коридор.
— У, падла старая. Не сдохнет, сволочь! — услышал голос молодой медсестры.
В коридоре стояла единственная кровать, застланная клеенкой. На ней лежал совершенно голый изможденный старик. Он выгребал из-под себя пригоршнями кал и швырял в окружающих.
— Гадина старая! Родная дочь отказалась, а мы возись тут с ним! — продолжала медсестра.
— Ничего, Ленок, скоро отмучаешься. Ставлю пару пива, если эта развалина протянет больше недели, — утешил медсестру мой конвоир.
— Скорей бы, — поддакнула Ленок.
— Ладно, кума, принимай пополнение, — сказал конвоир, толкнув меня в наблюдательную палату с металлической сеткой на окнах, битком набитую больными.
— Буйный, что ли? — спросила Ленок.
— Не-е, он мужик смирный, только от волков иногда убегает да умишко на время отключается, — сказал конвоир обо мне.
Я стоял в наблюдательной и со страхом смотрел на больных.
— А на черной скамье, на скамье подсудимых,
Молодой паренек за подлюку сидит.
Это было во вторник, а в четверг застрелили,
Но на воле кенты, ей башки не сносить…
Это — Мишка Вергазы, труболёт[31] из Туймазы, то ли с моря, то ли с гор, то ли фраер, то ли вор, то ли турок, то ли шизик, то ли зек. В общем — убийца, закосивший от вышки на прибабах и десять лет отсидевший в тесном зверинце, именуемом «наблюдательная палата». Склочный, злобный и мстительный. Ежедневные, в течение десяти лет, пригоршни психотропной дряни разрушили его организм и мозг. Возможно, ему не раз приходила мысль: лучше быть застреленным, чем затравленным. Низкий, худой, с заложенными по-тюремному назад руками, он бил пролетки между кроватями и, как дятел, долбил одно и то же:
— А на черной скамье, на скамье подсудимых…
Я почувствовал на затылке тяжелый взгляд и обернулся. За моей спиной стояло НЕЧТО и тупо скалилось. Это был Чита — постоянно прописанный жилец палаты № 2, безнадежный дебил двухметрового роста. Он почти не разговаривал.
Знакомство продолжалось. На ближней от меня кровати, вытянувшись в струнку и сложив руки по швам, лежал придурок с закрытыми глазами, как заведенный мотая башкой по подушке. Влево-вправо. Вправо-влево.
Мое появление никого не заинтересовало. Каждый был занят собой. Два дурака сидели на кровати лицом к лицу, по-мусульмански поджав ноги, и поочередно шлепали друг друга ладонью по лбу. Шлепки вызывали смех.
— А щас я!
Раздался шлепок.
— Гы-гы-гы…
— А теперь я!
Снова шлепок.
— Гы-а-гы…
Еще одна мрачная личность лежала на боку, подложив ладонь под щеку, и в угрюмой задумчивости о чем-то размышляла.
— Эй! — обратилась ко мне Лена Костенко — красивая, с глазами молодой стервы и с садистской искрой в темных зрачках дежурная медсестра. — Вот твоя кровать, ложись…
Взяв за руку, хотела подвести к больничной койке, приняв мое состояние за привычное. Я вырвал руку.
— Смотри ты, гондон, еще брыкается! Ложись щас же, пока сульфозин в жопу не влупила. Говно!
Я покорно лег на кровать.
Вскоре санитар Борька, держа за локоть, привел еще одного страдальца. Это был длинный, худой малый лет двадцати с широко открытыми от недоумения глазами. Борис, подведя его к свободной кровати, приказал:
— Игорь, ложись!