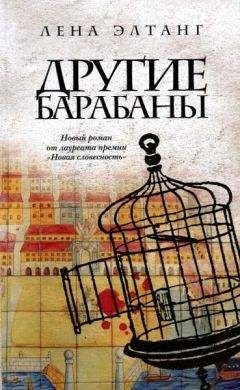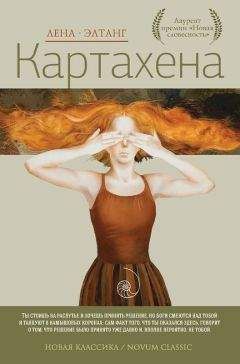Единственный, кто навестил меня в этой тюрьме, был длинный и печальный пан Грабарчик. Я чуть со стула не упал, когда он вошел в комнату для свиданий (это другая комната для свиданий, в ней есть стеклянная стена и телефон для переговоров), за день до этого мне передали теплое одеяло, и я всю ночь думал, что это сделала сестра, правда, утром сокамерники его отобрали и поделили на две приличные подушки (здесь нас трое, так что особенно не заскучаешь).
Грабарчик мрачно смотрел на меня через стекло, пальцы, сжимавшие телефонную трубку, побелели, и я подумал, что он, пожалуй, и впрямь за меня переживает. Такое же лицо у него было, когда в день теткиных похорон ему пришлось снести ее тело вниз на руках, потому что носилки похоронной фирмы не протиснулись в лестничный пролет. Он нес ее с таким удивленным видом, как будто только теперь, взяв ее на руки, осознал, что это уже не Зоя, а предположительная горстка пепла, дыхание Анубиса, ничто.
— Какого черта ты здесь делаешь? — спросил он сурово.
— Я здесь сижу в тюрьме, — сказал я, — спасибо вам за одеяло.
— Я пытался говорить с твоим адвокатом, но это общественный защитник, или что-то вроде того, и он, сдается мне, даже дела толком не читал. Я приехал два дня назад и сразу узнал новости, об этом даже в газетах пишут.
— Это вы прислали одеяло?
— Ты что, и вправду его убил? — он придвинул свое хрящеватое лицо к стеклу так близко, что я увидел его глаза, черные и сплошные, будто смолой залитые.
— Нет, но я причастен к его смерти. Как, впрочем, и моя сестра.
— Твоя сестра окончательно тронулась умом, — он постучал пальцем по стеклу, — не понимаю, как они могут принимать ее всерьез. Я не располагаю большими средствами, но способен нанять для тебя хорошего сыщика и попробовать выяснить, что там на самом деле произошло. У них есть ее слово против твоего, а результаты экспертизы весьма сомнительны.
— Это бесполезно, — сказал я, — на самом деле нет никакого самого дела.
— Да брось, — он поморщился. — Тоже мне, новоявленный суфий с бритой головой. Не будь ты племянником Зои Брага, я бы и полстолька времени на тебя не стал тратить. Она была хорошей женщиной, и думаю, попросила бы меня вмешаться, будь она жива.
— Но она мертва, — тупо сказал я, — и вообще, все умерли, все, кто меня интересовал. А волосы у меня отрастут.
* * *
Слава Богу, что на вранье-то пошлин нет.
Ведь куда какое всем нам было б разорение!
Во сне я видел Лютаса, но не лежащим на полу погреба, а сидящим за рулем: мы ехали куда-то в машине, полной людей, и мой друг решал, куда мы поедем, а все остальные молчали, даже когда он останавливался, шипел что-то, разворачивался и ехал обратно. Мы всю ночь катались по городу, останавливаясь возле каждой бабки с красными гвоздиками и покупая всю охапку целиком. Машина была завалена цветами, а по радио всю дорогу играли «Grândola, vila morena», потом люди стали выходить, и под утро мы с Лютасом остались одни, покрутились еще немного и выехали на мост Васко да Гамы.
— Ты ведь возьмешь мадьяра в игру, когда будет следующий тотализатор? — спросил я его. — Из него выйдет отличная лысая лошадка — ему тоже есть чего бояться, к тому же он не намного умнее меня. Обещаю ничего ему не рассказывать.
— Вылезай, — сказал Лютас, обернувшись. И тут я увидел, что один глаз у него вытек, а в глазницу вставлена красная гвоздика, будто в стакан.
Наверное, я закричал во сне, потому что сосед по камере разбудил меня пинком — спасибо, что не по ребрам, а по краю койки. Здесь, в Вал-де-Жудеуш, отирается много священников, поэтому народ не зверствует, боятся лишиться задушевных бесед с вином и свежим хлебом. Ко мне тоже подходил один падре, звал заходить в тюремную часовню, но я отговорился тем, что православный, хотя это и вранье. Я вообще не знаю, кто я. Особенно в последние дни.
Я читал — а где я это читал? — старинную историю о столяре Грассо, которого друзья разыграли, заставив поверить в то, что он больше не Грассо, да так ловко, что он чуть умом не тронулся, бедняга. Придумал эту шутку его друг Брунеллески, знавший его довольно хорошо. У него не было сомнений, что наивный столяр поверит, что превратился в другого человека, если все в одночасье станут называть его Маттео. Мало того что один из шутников заперся у Грассо в доме и оттуда отвечал, что столяр у себя дома и дверь не откроет, так еще и пристав поймал его, растерянного, на улице и отвел в тюрьму за долги, сделанные Маттео, а оттуда писец, участвовавший в розыгрыше, отправил его в каземат, где тот сидел тихо и не рыпался. Мой школьный друг тоже был уверен, что какое-то время — довольно долго! — я буду сидеть тихо, низко склонив голову, особенно, если вначале хорошо припугнуть. Это еще от актеров зависит, но с актерами им не слишком повезло. Херовый кастинг.
То ли из-за кошмаров, которые я вижу каждую ночь, то ли из-за астмы, но что-то определенно случилось с моей головой, в ней темно, словно в маяке с выкрученной лампочкой. По утрам я просыпаюсь, сажусь на койке и пытаюсь сосредоточиться, глядя в единственное окошко, где синеет рваный лоскут лиссабонского неба. Окошко маленькое, в две ладони, зато его можно открыть и подышать, если эти двое не возражают, они почему-то не любят сквозняков. Тавромахию я держу при себе, по примеру того капитана из «Pulp Fiction», только он хранил золотые часы в капитанском анусе, а я завернул свое сокровище в носовой платок и пристегнул булавкой к резинке трусов. Собственно, это все, что у меня осталось своего.
По утрам мне приходится засовывать в уши клочки серой ваты, выдранные из матраса, потому что мои соседи с самого утра режутся в трик-трак или рассказывают друг другу о женщинах, amantes, которые тоскуют по ним на воле. Один из них, Тьягу, пожалуй, даже не врет — ему то и дело носят передачи, в предварительной тюрьме это разрешено. Хамон, пармезан и персики.
Похоже, что по нему тоскует немало amantes, хотя посадили Тьягу за убийство любовницы, что ж, значит, их еще довольно осталось в живых. Наслушавшись сладострастных разговоров, я взялся было пересчитывать своих любовниц, но сбился и бросил. Я спал, наверное, с тремя десятками женщин, но кого из них я стал бы убивать из ревности? Никого не стал бы, а значит, они не в счет.
Удивительное дело, сам я совершенно ни по кому не тоскую, я даже не злюсь на сестру, гуляющую теперь по дому с новым пупсом вместо разбитого, хотя нет, зачем он ей теперь, когда некого больше мучить?
Самым странным остается то, что я совершенно не способен обвинить Лютаса в устройстве того, что в детективных сюжетах называется западня, или, как сказали бы мои соседи, подстава. Особенно теперь, когда ясно, что он не был знаком ни с Ласло, ни с метисом-кабокло, ни с прекраснозадой стюардессой португальских авиалиний. Я знаю, что эти люди играют в своей собственной пьесе, а Лютас просто вошел в мои тогдашние обстоятельства удачно и сочно, будто нож в апельсиновую мякоть. Мой друг сделал меня персонажем французского романа, железной маской, страдальцем наподобие бедного аббата, выцарапывающего дырку в стене — это казалось ему справедливым, ведь я был ему должен. Он продал меня в историю, но не приковывал цепями за голени и не запирал на замок, я сам согласился сидеть за этой дверью!
Что касается севильской куницы, то она упала на меня с моих собственных небес, или, как сказал бы Лилиенталь, из моей прохудившейся кармы. Разве я мог не увлечься женщиной, которая бежит загорать на крышу, стоит январскому солнцу показаться на полчаса, сбрасывает платье и лежит там в траве на виду у всего города. Однажды старая соседка, чьи окна выходят на мою крышу, принялась честить Додо за то, что та расхаживает в белье, а не в купальнике, как положено. Моя испанка спустилась в кабинет, взяла у Фабиу на столе синий фломастер, нарисовала себе на белом лифчике россыпь васильков, на трусах крупно написала «banador 2011», вернулась на крышу и завалилась в траву.
И это еще не все: в ней была медлительная, лакомая щедрость на грани блядства, меня это страшно заводит. Может быть потому, что сто тысяч лет назад я лишился невинности с такой же сонной блондинкой, ровно за минуту, даже вспоминать смешно. Хочешь, расскажу тебе?
Итак, я зашел в свою комнату в тот день, когда должен был уехать из Тарту навсегда. Когда я шел по Пяльсони, думая о том, где взять сумку, чтобы засунуть в нее все книги, которые не удастся всучить букинисту, я с трудом волочил ноги. Тело стало непослушным, каждый шаг давался мне с трудом, так, наверное, идут по джунглям, раздвигая набрякшие тропическим дождем лианы. Две ночи, проведенные с этой женщиной в отеле, сделали из меня ярмарочного уродца с деревянным фаллосом, на который можно вешать ключи. Лежа рядом с теткой на грубых эстонских простынях, я понял, что мое тело живет своей жизнью, совершенно не вникая в мои соображения и обстоятельства. Я понятия не имел, что страсть — не называть же это похотью? — может быть настолько мрачной и болезненной и так сильно похожа на ярость.