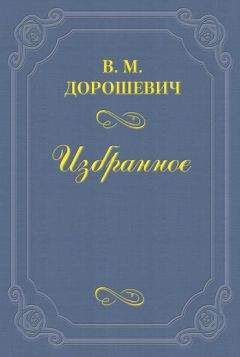— Ты подумал и сделаешь признание?
— Непричастен. — И я в который раз сослался на ночёвку в сарае.
Сбоку ко мне приблизился опер. Я ждал, он ударит... Следователь, как бы раздумывая, произнёс:
— Распаев совершил? — перевёл взгляд с меня на опера и с опера на меня. — Да! Мы тебя вытащим! — объявил мне. — Но ты не должен скрывать, что видел Распаева у места преступления. Ты расстался с группой, пошёл домой и со своего двора увидел, как на соседний двор проник Распаев.
— Я не видел.
— Как ты сказал? — произнёс он зловеще. — Это последняя подлость и наглость! Ты с кем играешься ... — выругал меня матом. — Было темно, но ты заметил фигуру. На неё упал свет из окна, и ты узнал Распаева.
— Не было этого.
Опер рванул меня за волосы, потащил к стене. Мне приказали упереться в неё руками, поставив ноги на ширину плеч. Другой опер, постукивая меня резиновой дубинкой по животу и ниже, заставил отступить от стены так, что ещё чуть, и подошвы скользнут по полу. Подошедший следователь сказал:
— Ты должен был видеть Распаева! Если убийца не ты, значит — он. И — наоборот.
— А почему не Старков?
— Ты его видел?
— Нет.
Он матернулся, приказал:
— Скажи, какой у Распаева нож!
— Маленький складной ножичек с двумя лезвиями, открывалкой консервов, шильцем, штопором, пластмассовая оправа под перламутр, — ответил я с неравнодушием к подобным вещицам.
— Про другой скажи!
— Другого не видел, — промямлил я, как пожаловался.
— Гнида! — бросил он, вернулся к столу, занялся бумагами, а мне становилось всё тяжелее стоять в наклоне, я передвинул правую стопу чуть ближе к стенке — опер ударил меня дубинкой по заду:
— Встань, как стоял!
Не выдерживая, я время от времени сгибал то одну ногу, то другую — и вздрагивал от удара. Отказываясь врать про Филёного, я ныл, что вот-вот упаду. Мне обещали отбить почки. Когда, казалось, руки и ноги мои отнялись и оставался миг до падения на пол, опер схватил меня за шиворот, подвёл к столу следователя. Тот без охоты сообщил, что меня выпускают, и добавил:
— На время. Хорошо подумай, что сказать, когда опять встретимся. Пока были только цветики...
Филёный из-за своей судимости более меня и Старкова подходил в убийцы. На допросе он показал, что, оставив нашу компанию в переулке, направился прямиком домой и до утра не покидал квартиру. Но его слова подтверждали лишь родители, а их свидетельство не признавалось заслуживающим доверия.
Не имел алиби и Старков. Хозяева дома, где он жил, видели, когда он возвратился к себе в комнату, это было за час с лишним до убийства. Но хозяева не ручались, что жилец никуда не отлучался всю ночь. Они спали, и он мог тихо выйти, а потом так же тихо вернуться.
Изъятый у него нож экспертиза не признала орудием убийства, но соответствующего ножа не оказалось и в квартире Филёного. На вещах Старкова отсутствовали следы крови, но их не нашли и на одежде Генки. Однако, при всём том, за Генкой была отсидка, а за Старковым не было. Мы узнали теперь о роде его деятельности. Он работал в отделе снабжения крупнейшего в регионе предприятия, мог достать ковёр, какой не купить в магазине, другой дефицит. В СИЗО на него, вне сомнений, нажали, чтобы получить мзду по максимуму, и отпустили восвояси.
Им нужно было признание Филёного, и нетрудно представить, что он претерпевал. Наших ребят выдёргивали на допросы, требовали: «Вспомни, ты вернулся к тому дому узнать, не утих ли шум, около дома кто-то был, на него упал свет из окна — ты узнал Распаева». Никто не соглашался это подписать. Следователь вызвал меня повесткой, не удивился, что я опять отказываюсь «помочь следствию», и сказал вдруг:
— А мы могли бы помочь тебе в институт поступить. Мы многое можем.
— Ну не видел я его!
Следователь аккуратно положил папиросу на край пепельницы, лицо стало остервенело ненавидящим:
— Выявится за тобой что — покажем тебе небо с овчинку... — проговорил медленно и взмахнул кистью руки, чтобы я убирался.
Во мне приятно окрепло самоуважение. Я устоял и не раскололся, какой нож действительно носил в кармане Филёный. В его прежнем деле фигурировала «лисичка». Нож, который он завёл, когда отсидел и приблатнился, был того же типа, но с рукояткой попроще. Лезвие имело достаточную длину, чтобы, войдя в шею сбоку, пронзить её почти насквозь. О ноже знали Ад и ещё двое-трое наших, но на допросах про него не вякнули. У нас считалось безмерно позорным, гнусным деянием — настучать на кого-либо, а уж тем более настучать на приятеля — неважно, даже если он в самом деле убил человека. Донос всегда, в любом случае — донос. Это убеждение разделяли и взрослые, которые чуждались преступного мира, никого не избили, не ограбили: Альбертыч, его друзья, мой дед, а также, думаю, и мой отец-инженер, хотя он избегал прямо высказываться по упомянутому вопросу. Вопреки писаной морали, которую вовсю попирали люди, обладавшие властью, бытовала неписаная: мой душевный настрой был в ладу с ней. Весть об убийстве милиционера вызывала положительные эмоции, а если бы наша компания узнала, что убит прокурор, мы пережили бы бурную радость, преисполненные восхищения тем, кто сделал дело.
Мы не обсуждали между собой: а что если действительно Генка зарезал Славика? Сам факт этого осторожного молчания выдаёт наше мнение на сей счёт. Мне мучительно-страстно желалось, чтобы убийцей был Старков. Но это значило бы: он втюрился в Нинель до неистовства. Вот уж что никак не шло ему — холодно самоуверенному, навидавшемуся баб. Он мог, рассчитав, что не окажется побитым, полезть в драку из-за Нинель, надеясь затем переспать с ней, оценившей его мужество. Но чтобы он, подойдя ночью к её окну и услышав — с нею другой, — дождался, когда тот останется один, и зарезал его: в такое поверить не удавалось. Однако трудно было согласиться и с тем, что убил Филёный. До такой степени влюбиться в Нинель казалось мне недопустимой наглостью с его стороны. Я думал, как искренне, как необыкновенно сильно я любил Нинель — но разве я ударил бы Славика ножом, будь он у меня в те беспощадные минуты? Когда Славик вышел на веранду, я мог шёпотом окликнуть его и, наврав, что должен что-то ему сказать, перелезть через перила, вонзить нож... Прежде всего, я не осмелился бы на это. Но есть и другая причина. Когда Нинель сказала ему простые, ясные, всё решившие слова, во мне съёжился дух. Подавленность оттого, что я оказался ей не нужен, усиливало чувство: это необратимо, ничего уже не изменить. Я был бессилен злиться на Славика, а обида на Нинель оборачивалась безнадёжной внутренней жалобой на мой жребий.
Какая же одурь нахлынула на Генку, если его потянуло зарезать соперника, после того как Нинель тому отдалась? Стремление отомстить счастливчику за его радость подразумевало безумную страсть — с чего бы она возникла у Филёного? Всё моё существо противилось такой вероятности. В последнем разговоре с Нинель я добивался, чтобы она почувствовала: я готов отдать за неё жизнь. Мне верилось — это не было самообманом. Но готовность, пусть самая искренняя, увы, не идёт в сравнение с поступком. Генка, если его совершил Генка, без слов сдал в утиль свою жизнь из-за Нинель, не побоявшись приговора за убийство.
Ради того, чтобы он прозвучал, трудились не покладая рук, трясли не только друзей Филёного, но вообще тех, кто чем-либо проштрафился и годился в свидетели. Нашли парня, притянутого за мелкое хулиганство, который от трёпки, как мы выражались, опоносился. Он не входил в нашу компанию, но Генку знал и подписал показание, будто известной ночью шёл мимо дома Надежды Гавриловны: кто-то перелезал через забор на её участок... ну и далее про свет из окна.
Итак, Филёного видели у места убийства примерно за час до него. Следователь, думаю, не имел уверенности, что парень на суде не откажется от показаний, но и без того надобно было подкрепить свидетельство. Генку могли увидеть спешащим домой в то время, когда, по его словам, он уже спал дома. Поскольку нет такой гадости, к которой нельзя было бы кого-то склонить, органы заполучили бы нужного свидетеля — однако звёзды изменили положение, что, естественно, повлияло на судьбы. В рамках обыденности это приняло такой вид.
Альбертыч, как уже упоминалось, пользовался славой рационализатора, его уважали другие рационализаторы и изобретатели области; один из них, Герой Социалистического Труда, стал депутатом Верховного Совета страны. Альбертыч адресовал ему послание, в котором рассказал о Генкиной судьбе; написав, по какому подозрению Генка арестован, остановился на том, что действия лиц, ведущих следствие, весьма и весьма нуждаются в проверке.
Власть любила тему советского гуманизма, нередко можно было услышать, как наше общество помогает человеку, который оступился и отбыл наказание. Мне попадались книги с вариациями сюжета: бывший преступник, встретив доверие, сердечность советских людей, убедился — он не отверженный. В нём пробуждается светлое, открываются привлекательные черты, замечательная девушка влюбляется в него... Подобного героя сыграл Кирилл Лавров в кинофильме «Верьте мне, люди». Показанное плохо вязалось с действительностью, однако наверху, случалось, предпринимали попытки доказать обратное. В этой связи депутат счёл: письмо Альбертыча даёт ему повод проявить себя на депутатском посту.