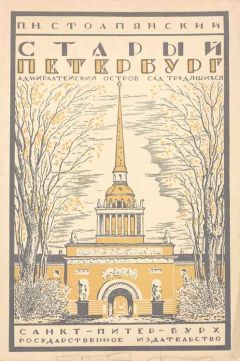— Вообще, — говорил этот парень возмущенно, — ваши не соблюдают никакой этики. С нами должна бороться только контрразведка, и так везде, а у вас любой — разведчик, хоть и не его дело, а выдаст.
Потом его вызвали к наркому, и Балицкий обещал сохранить ему жизнь, если он раскроет всю сеть, но он отказался. Тогда тот стал его убеждать как сына рабочего. “А вы почему сажаете рабочих? — будто бы сказал он Балицкому. — Вон сколько понасадили после смерти Кирова”. В Польше он был на похоронах убитого польского министра, кажется Котса, и кто-то из рабочих сказал: “Вот бы почаще министров убивали, мы бы на похороны ходили и не работали”. Это услышал полицейский и толкнул болтуна: “Чего разговорился, смотри мне!”
— А у вас что бы за это было? — закончил он.
Несмотря на всю незаслуженную тяжесть нашего положения, никто его не поддержал, хотя парень и располагал к себе. О своей профессии он говорил как о самой обычной, только интересной.
Занимательной была эпиграфика в пересыльной. Писали кто чем мог: огрызками карандашей, кончиком сапожного гвоздя. Прежде всего, фамилии и адреса. Это не из тщеславного желания оставить по себе память: глядишь, прочитают знакомые, узнают, куда выслали, может, до родных дойдет. Но были и философские сентенции типа “От тюрьмы и от сумы не зарекайся” — мы и не зарекались. Вот явный пессимист: “Будь проклят тот отныне и до века, кто думает тюрьмой исправить человека!” Но с ним спорит оптимист: “Тот не человек, кто в тюрьме не сидел”. Браво! Именно мы — люди. И стараемся потешаться, глушить глубоко запрятанную тоску. И получается неплохо. Хоть и ни за что, хоть и от своей власти, но я должен быть таким, как ОНИ.
И вот нас повели гурьбой на последнее свидание. Небольшая комната, разделенная двумя барьерами на расстоянии примерно метра один от другого, и между ними расхаживают два надзирателя. Каждый из нас старался протолкнуться первым, чтобы попасть прямо к барьеру. С другой стороны хлынули женщины. И какое это было ужасное зрелище! У многих на руках дети. Завидев мужей, сыновей, все начинали навзрыд плакать. Один старался перекричать другого, чтобы его услышали. Надзиратели утихомиривали. Наконец я приткнулся в самый уголок и стал высматривать маму. Заметила и она меня и протиснулась вперед. На лице полное спокойствие, ни слезинки. Мой вид тоже действует на нее умиротворяюще.
— А теперь запомни и передай… — я назвал своего лучшего друга.
И я прокричал ей, что на меня и на него показывали Лозовик и Перлин, и чтобы он не верил, если ему подсунут мои “показания”. В 1941 году, когда вернулся, я узнал, что мама все передала, как я ей говорил.
Не сказать ни слова, чем кормили, что там за баланда была такая, и не пропустить ни одного человека — это по-отцовски. И в прощальном перекрикивании с матерью помнить прежде всего о друге — тоже узнаю брата Яшу.
В тот же день нам вручили передачи. Я получил целый мешок, и на другой день нас повезли к поезду. Не хватало “черных воронов”, и мою группу повезли в открытом грузовике. Хотя и накрапывал дождик, но было хорошо. Видеть зеленый Киев, любимый город, где я по-настоящему осознал себя… Тоски не было. Поживем — увидим. Сгрузили нас на площадке возле железной дороги. Набралось порядочно. Кругом конвой, собаки. “Присесть на корточки!” — приказ. Все выполняем. Хорошо быть мальчишкой! Никаких мыслей о несправедливости, о поломанной научной карьере, о будущем. С любопытством рассматриваю тех, кто сидит рядом на корточках, оглядываю конвой, собак — интересно.
В вагоне настроение поубавилось. Нравилось, что назывался вагон “столыпинским”, — отзвук революции. Но уж больно густо нас набили. Это обычное купе, жесткое, но с решетками на окне и на дверях. И нас там человек двадцать. Но как тронулся поезд, стало, как всегда, свободней. Кто сидит на скамейке, кто на полках, кто на корточках на полу. Знакомимся и становимся друзьями. У самых дверей грузный мужчина с козлиной бородкой. Сразу видно — оптимист.
— Меня спрашивают, за что посадили, — я говорю: за бородку. Говорят, похожа на клинышек Троцкого.
И басовито смеется, хотя многим еще не до смеха. “Хорошо, когда кто врет весело и складно”. Ох, как жаждет душа этой разрядки! Фамилия оптимиста — Ладонюк; у него больное сердце, и он сел около дверей с решеткой, где воздух посвежее. Я забился на полку и сижу на корточках. Ничего, к ночи можно растянуться на полу, под скамейками. Обширен божий мир. В большинстве здесь рабочие, но ко мне они расположены: я не подписал на себя ничего. Подписавшие остались ждать суда. Через пару лет, уже на Воркуте, я узнал их финал. После процесса над Зиновьевым, Каменевым и КО они поняли, что шутки плохи, и стали отказываться от своих показаний. В феврале 1937 года приехала военная коллегия, и каждому на час дали огромный том обвинительного заключения. На суде каждый говорил, что отказывается от прежних показаний, и приговор был — расстрел.
А ты, значит, уцелел, как Абрамушка-дурачок… Самое простое и впрямь оказалось спасительным. А человек не может не боготворить то, что спасло ему жизнь. Меня же простота погубила, и, стало быть, я должен ее демонизировать…
Итак, мы перезнакомились, беседуем, кормимся, а сидор у каждого порядочный, и словно уж и не тесно. Можно ноги распрямить и даже полежать. Кто о себе рассказывает, кто анекдотом пробавляется. Хорошо! Зато на следующий день разгорелся скандал. Ладонюк разговорился ночью с молодым конвоиром, пареньком с симпатичной детской мордочкой, и рассказал о себе: рабочий-полиграфист, участник революционного движения ни за что ни про что едет в места не столь отдаленные. А паренек утром пристал к своему суровому комвзводу: что же это делается?! И мы слышали через дверь угрозу: “Приедем в Архангельск — сдам тебя куда надо!” Тут одни стали говорить, что не надо было парня будоражить, пропадет теперь, другие считали, что надо, — пусть знают, кого везут.
Из дальнейшего пути мне запомнился только Ярославль. Солнечное морозное утро — побегать бы на свежем воздухе, но что-то и мысли не было такой. Мы радовались, что конвоиры по нашей просьбе купили нам вареного картофеля. А еще где-то к нам присоединили небольшую партию зэков с канала Москва — Волга, освященного самим Горьким. И я нашел одного из этих героев, потчевал его из своего сидора, а он мне расписывал свою геройскую жизнь: Гражданская война и прочее такое возвышенное, а я хлопал ушами — чтобы на второй день разглядеть заурядного уголовника. Большинство из них мастаки сочинять.
Тогда я впервые услышал о существовании политизоляторов для особо видных заключенных — в Верхнеуральске, в Орле… Режим там был завидный. Неплохое питание, большие библиотеки и свобода общения в течение дня. Передавали о бесконечных дискуссиях между меньшевиками, эсерами, троцкистами, бухаринцами и прочими. Не обходилось и без злорадства. Троцкисты читали вслух бухаринцам из “школы молодых”, так называли учеников Бухарина, статьи из журнала “Большевик” 1926 — 1927 годов против троцкистов. Споры доходили до самого большого накала, как и до революции, когда один мудрый надзиратель сказал им: “Вспомните мои слова, господа: когда вы придете к власти, вы друг другу горло перегрызете”.
Были тут какие-то особые моральные и волевые качества, независимые от политических взглядов? Или за взгляды эти уже было слишком дорого заплачено? Что же держало этих людей в стороне от жизни страны?
Еще вчера я на эту “жизнь страны” только бы хмыкнул: ловушка для простаков. А мы, умные гордые люди, живем по принципу “вы меня цените — и я вам служу, вы меня отвергаете — и я вас отвергаю”. Но теперь я с адской отчетливостью понимал, что не беспомощному и мимолетному презирать могучее и бессмертное. Мы, удалые красавцы, внезапно обнаружившие у себя на ахилловом сухожилии черную метку отверженца, отказались от служения бессмертному только потому, что за него нужно было платить унижениями. Но дружественное послание из ада открыло мне с полной ясностью: история — это созидание бессмертия, отказаться от участия в ней означает заведомо обречь себя на тлен и ничтожество. И я глушил тоску по историческому служению байроническими сарказмами, а брат — водкой и ухарством.
Самое простое и надежное — сохранить бы элементарное достоинство — для нас и оказалось самым коварным: достоинство мы сохранили, а бессмертие профукали.
Запомнились палатки в архангельском пересыльном пункте; удивляла бесконечно меняющаяся погода: то синее небо, то черные тучи и проливной дождь (в Киеве такого не бывает). Живо запомнился поход в баню: странные для нас деревянные тротуары и приятное чувство “прогулки” через город — в строю, под конвоем, но все очень культурно, без окриков и назиданий. Всматриваешься во встречных — что за люди такие особенные, что им позволяется свободно разгуливать? И думаешь, что и тебя рассматривают и, наверно, гадают: что-то не похожи на преступников…