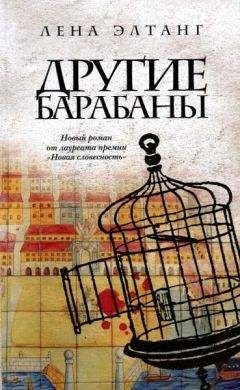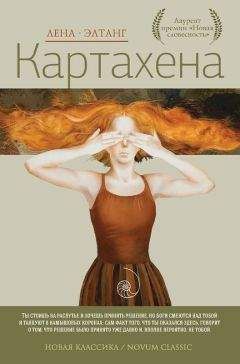Ты получишь это письмо — тело задохнувшейся пленной рыбы, а в нем этот текст — проглоченный рыбой перстень или что там они глотают. Но не думай, что я заставляю тебя читать все с начала до конца и горько жалеть меня, или, не дай бог, пытаюсь подкупить тебя своей залежалой откровенностью. Просто сохрани это. Или сотри.
Не назвать ли мне эту книгу — «Тавромахия»? Хотя нет, матадор из меня получился бы так себе, я умею ловко пятиться, но слишком часто поворачиваюсь к быку спиной, к тому же не выношу вида крови. Похоже, во мне не так уж много этого самого дуэнде, я, скорее, тот парень, что бегает с бандерильями — денег меньше, и славы никакой.
Может, назвать ее «Слабая вода»? «Коралловый вор»? «Полет коноплянки в высокой траве»?
Ладно, название найдется, зато эпиграф у меня уже теперь есть:
...Огорчился, ибо связан!.. Взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Тучи придвинулись ближе, закапал острый, быстрый лиссабонский дождь, предвещающий грозу. Я обошел пепелище несколько раз, как будто примеряясь к пейзажу, чтобы начать рисовать, и, наконец, присел на траву возле двери стрекозиной спальни, я опознал ее по уцелевшему рельефу на дубовой филенке. Обугленная дверь лежала на траве, указывая в небо медной ручкой, будто сломанным пальцем. Глядя на нее, я вспомнил, что где-то читал о немцах, которые отвинчивали ручки с дверей гостиниц и частных домов, покидая осажденный армией город.
— Тебе надо научиться делать то же самое, чтобы не было соблазна открывать те же самые двери, — засмеялся Ли, когда я рассказал ему об этом. — Отвинчивай и бросай за плечо!
Хорош спаситель, даже переночевать не предложил погорельцу. Привез меня за сорок километров из Сетубала, высадил на пожарище, поворошил золу палкой и уехал. Будь это полгода назад, я бы просто дошел до Шиады и ввалился бы в студию без приглашения, отперев двери своим ключом, а если бы ключа не было дома, залез бы на балкон по трубе и ночевал бы там на старой вытертой шубе квартирной хозяйки. А теперь я даже адреса его не знаю и, похоже, не скоро узнаю.
Куда деваться-то?
Я так привык жить в тюрьме, что проблема типа где ночевать показалась мне томительной и непосильной, так человек, поднявшийся после долгой болезни, долго не решается выйти на угол за батоном и зеленью — стоит перед зеркалом и разглядывает свое лицо. В одном кармане у меня были ключи от погорелого театра, а в другом лежала пачка оберточной бумаги, так густо исчерканной, что я сам не смог бы всего разобрать. Мне всегда нравился ирвинговский Дидрих Никербокер, сбежавший из «Колумбийской гостиницы», не оплатив счета, зато оставив в номере два седельных мешка, набитых мелко исписанными листочками.
Я встал на то место, где был погреб, и принялся ворошить золу, то и дело натыкаясь на куски ноздреватых кирпичей и осколки лопнувших винных бутылок. Маяка там не было, похоже, он расплавился в сердцевине пожара, будто в муфельной печи — у нас была такая в школе, я даже помню, что для плавки латуни нужна тысяча градусов, не меньше. Я подцепил желтую ленту палкой и резко потянул, обрушив оставленное пожарниками заграждение.
За спиной у меня раздался деревянный скрип и сдавленное ругательство, и я обернулся в сторону «Canto idilico», лишившегося заросшей вьюнком стены, защищавшей его от непогоды. Красные зонтики на тонких стеблях раскачивались на ветру, хозяин принялся закрывать их один за другим, и ему, наверное, прищемило пальцы.
— Faz frio, — сказал парень, заметив мой взгляд. — За стеной твоего дома нам жилось гораздо лучше.
— И не говори, — ответил я со своего пожарища. Потом я встал, отряхнул джинсы, обмотал колокольчики вокруг запястья и пошел оттуда прочь.
Я прошел двор, потерявший право называться колодцем, миновал окно ресторана, за которым болталось выцветшее одеяние певицы фадо, свернул в переулок, подошел к стене винной лавки с зарешеченной нишей, наклонился и просунул руку под жестяной поддон. Пакет лежал на месте.
Я сел на крыльцо магазина, оторвал край ленты, развернул старый свитер и вынул компьютер. Батарея была заряжена до отказа, единственное, что я успел сделать в тот день, когда вернулся из первой тюрьмы, так это подключить голодного к розетке. Я даже почту не успел проверить, не говоря уже о том, чтобы отправить тебе письмо, как обещал.
Что мне было нужно теперь, так это хороший, добротный вай-фай, но идти в кафе и смотреть на людей, сидящих там с пивом напротив разоренного гнезда, двухсотлетнего ninho, я был не в состоянии. Видеть этот дом в руинах так же странно, как видеть аварийную машину-эвакуатор беспомощно лежащей в канаве, или лодку спасателей, разбившуюся о прибрежные скалы.
Пришлось вернуться в свои владения, сесть на железную балку с подветренной стороны цоколя, поднять воротник и включить поиск доступной сети. Бубенцы мешали мне стучать по клавишам, так что я размотал их и положил рядом с собой. Спасибо тетушке за двухэтажный особняк в стиле без двух минут мануэлино, но все, что от него осталось, это орудие против демонов, да и то не поймешь каких — индуистских или зороастрийских.
Стоит ли бояться демонов тому, кто не увернулся от коварного бога дружбы с тысячью ушей?
И как это вышло, черт возьми, что некому ходить за мной по свежей золе, хлопая в ладоши, звеня железом и отгоняя рассерженных духов? У человека должна быть хотя бы пара-тройка друзей. Они не оставили бы его ночевать под куском рваной жести. Дали бы ему фляжку, свернули бы ему самокрутку. О que é este catso? Иными словами, что за херня?
Ладно, даже у такого, как я, найдется убежище, например, в тюрьме. Не в новой, конечно, туда так просто не залезешь, а в той, туфтовой, липовой, фанерной, где я помню все коридоры, и, вполне вероятно, обнаружу свой матрас и одеяло с чернильным штампом.
В любом случае, в парке ночевать холоднее, подумал я, поглядев вокруг: тополя в конце переулка гнулись под ветром и серебрились изнанкой листьев, редкие капли стучали по жести над моей головой, за статуей Христа в Касильяше копились угольные и сизые тучи. Потом я подумал, что кто-то (смотритель храма? самоубийца?), стоящий сейчас на смотровой площадке, видит мое пожарище как антрацитовое пятно с неровными краями, кротовую шкурку, кариесную дыру в ряду тесных желтоватых домов на набережной.
Что там сказал португальский прораб: работы навалом, месяца на два, не меньше? Хорошо бы успеть пробраться туда до конца рабочей смены, черт знает этих маляров, может, они там запирают все замки, чтобы никто не унес скипидара и вонючих кистей. Высплюсь в своей прежней камере с бананом, а утром пойду на набережную, выпью кофе в яхтенном клубе и подумаю обо всем. Куда идти, подумаю, и где окно.
Ветер подул с новой силой, мелкие облачка золы вихрились у моих ног, и я вспомнил, как еще в Вильнюсе прочитал в нянином соннике, что увидеть во сне летающий пепел — это к горьким переменам, напрасным заботам и невеселым известиям.
А что означает увидеть его наяву?
* * *
О que é este catso?
Я сижу на свободе, хотя и по уши в золе, в руках у меня компьютер, и если я захочу свернуть себе цигарку, то парень, который мне поможет, живет за углом. Кое-кому приходилось не в пример труднее — Мануэль да Коста, например, повесился в бразильской тюрьме, а голодный Жерар де Нерваль — на фонарном столбе. А у меня есть и рукопись, и свобода, вот и нечего себя жалеть.
Компьютер коротко тявкнул и показал мне Сеть, которую ему удалось зацепить.
Canto idílico, entrada по sistema. Кто бы сомневался.
Я сразу открыл почту, чтобы послать тебе обещанное, и взялся было прикреплять файл к письму, но заметил, что все это время сохранял написанное под названием «honey.doc». Тот, кто увидит это письмо в твоей почте, непременно откроет документ, уж больно откровенное у него имя. Я ведь даже не знаю, с кем ты живешь, Ханна. Я занес руку над клавиатурой, чтобы напечатать другое название, но тут компьютер взлаял уже как следует: пришла накопившаяся на сервере почта.
Я сам когда-то поставил эту программу с собачьим голосом, но до сих пор вздрагиваю. Глупо, что за тридцать с лишним лет у меня так и не завелось настоящего пса — бедную Руди я своей не считаю, да она и знать меня не желала, просто принимала пищу из моих рук, потому что была старая и беспомощная. Почтовый ящик высветил полученные письма красным — триста четыре штуки, я чуть с балки не свалился, хотя знаю, что это на три четверти электронная плесень и тля. Первое письмо было с неизвестного адреса, его отправили в конце марта, как раз в то время, когда я приноровился садиться под окном камеры так, чтобы полуденное солнце грело макушку.
Константинас, не знаю, годится ли этот адрес, пишу с больничного компьютера, адрес мне дал твой приятель, он приезжал в Вильнюс на конференцию и нашел меня, позвонил в больницу, говорит, что через Интернет найти можно кого угодно, надо только знать полное имя, откуда он знает мое имя? Я вернулась в столицу, жить на хуторе стало совсем плохо, из-за европейских правил никто не работает, получают деньги за то, что не пашут и не сеют, вот вся округа и спилась от безделья. Так что хутор пустует, за ним смотрит пан Визгирда, он жив, только попивает крепко. Тот парень, эстонец, сказал, что ты пропал и не отвечаешь на письма. А я сказала, что из моей жизни ты пропал еще раньше. Надеюсь, у тебя все хорошо в твоем замечательном доме, в который ты нас с доктором ни разу не пригласил. Она всегда была не в себе, эта русская, Бог ее наказал и так же накажет тебя, помяни мое слово. Как ты кричал на мать, когда я только слово поперек говорила. Ты всегда был бесстыжей польской косточкой, ты так похож на своего отца, что я радуюсь тому, что не вижу тебя теперь, когда тебе столько же лет, сколько было ему.