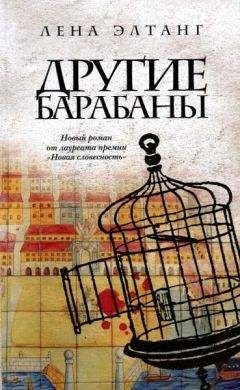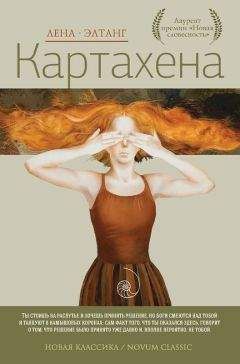К таким образам относится, например, мифологема пчелы. Пчелы связаны как со смертью и миром умерших (мед во многих культурах имеет отношение к погребальным обрядам), так и с возрождением (в раннем христианстве пчела символизировала воскресшего Христа). Пчелы являются одновременно одним из страшных снов героя и необходимой составляющей «здешнего мира»[1]. Как известно, к пчелам следует относиться серьезно хотя бы уже потому, что они делают мед, а до меда большим охотником является не только Winnie-the-Pooh, но и бог Один (или Водан), этимология имени которого отсылает нас к поэтическому вдохновению и шаманскому экстазу. Костас сидит в одиночке и разговаривает с Хани, своей условной женой, женщиной, которую он не видел без малого шестнадцать лет. Посредством Хани[2] он рассказывает нам о своих попытках понять отношения между условным, становящимся, и действительным, уже ставшим. Он учится смотреть на мир, как на текст, у которого существует несколько вариантов прочтения.
Другим символом, указывающим нам выход из лабиринта, является метафора двери закрытой и открытой одновременно. Дверь суть не что иное, как само повествование, текст, который открыт для понимания и в то же самое время закрыт, поскольку никакое понимание (никакая речь) не может претендовать на полноту. С одной стороны двери находятся прежние потребности и привычные звуки, а с другой — другие возможности и другие барабаны. В нашем случае героя отделяет от самого себя только дверь, но поскольку эта дверь и есть само повествование, то только от читателя зависит, встретится ли Костас с самим собой.
Феномен отступления по своему имажинативному значению ассоциируется с водной стихией. Третья глава романа называется «Слабая вода». Слабая вода — это поверхность, неспособная что бы то ни было удержать, это образ условного настоящего, которое по определению невозможно остановить, зафиксировать, поскольку все происходящее в настоящем тут же погружается в многозначное пространство памяти. Воспоминания — это «мертвая вода», с ее помощью наши отдельные представления о себе срастаются в единое «Я»[3] . Но это «Я» не является истинным, в нем нет жизни, поскольку сам способ сборки всегда произволен — мы что-то помним, а о чем-то предпочитаем забыть.
Итак, слабая вода (т.е. настоящее) — не держит, а «мертвая вода» (т.е. прошлое) — создает лишь иллюзию целостности. Однако «живая вода», которую пытается найти Костас, — это отнюдь не будущее (ведь будущего всегда еще нет), это некий элемент, который позволил бы укрепить настоящее, т.е. превратить «слабую воду» в «воду сильную» или «живую» («Что я должен найти в прошлом, чтобы объяснить себе настоящее?» — спрашивает Костас). И осуществить это превращение возможно, только выйдя из темницы речи и встретившись с самим собой.
На фоне этой растафарианской композиции Ian'I — «Я-и-Я», то есть встречи с самим собой, и происходят все события в книге. Желание встретиться с самим собой уравновешивается страхом перед такой встречей: как знать, может быть, тот другой «Я» окажется вовсе не Снарком, а Буджумом, с которым никто в здравом уме не хотел бы встретиться.
Не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что «Фалалеем» герой книги называет вполне конкретную вещь. Тогда «дело Фалалея» (неслучайно так называется седьмая глава романа, в которой события приобретают стохастический характер) это на самом деле «дело JAH». Джа, подобно Вергилию, водит Костаса по кругам его собственного ада, позволяя ему, время от времени, увидеть картины прошлого, искаженные чувством вины, неуверенности и страха. Так, например, Костас встречает своего отца Франтишека К. (которого он считает предателем) под руку с Зоей Брага (которую он предал сам) на рынке Рибейра, но Джа не позволяет ему с ними заговорить. Потому что «бесполезно писать им письма, подбрасывать в небо почтовых голубей, опускать бутылку в подземную реку или оставлять сообщения на рассыпавшийся от ветхости автоответчик».
Однако вода и грезы являются не единственными смыслообразующими элементами в романе, характер героев и событий во многом определяет стихия огня и связанные с ним метафоры. Сестру Костаса зовут Агне, что ассоциируется как с ведийским божеством огня Агни («Агне — это огонь. Пожар», — говорит Костас), так и с древнегреческим прилагательным άγνή — «ритуально чистая», «святая» (Костас называет Агне «малахольной проповедницей»).
Для самого Костаса огонь является чем-то принадлежащим к реальному миру[4], и, может быть, именно поэтому в конце книги (то есть в конце той книги, которую пишет Костас) огонь уничтожает дом на Терейро до Паго. Созерцание огня может быть истолковано как стремление к смерти и, одновременно, как сексуальное переживание, метафора огня соединяет в себе танатос и эрос, а оба эти начала несут на себе отблеск истинной реальности, которая находится за гранью слов. Смерть и экстаз пугают своей неизвестностью и невысказываемостью, поэтому человек обычно предпочитает держаться за слова и благоразумные объяснения, даже если это стоит ему унижения и разочарования в собственных идеалах. Костас, например, ради слов готов целовать ботинки следователю[5]. Однако не следует забывать, что повествование — это лабиринт, выбраться из которого можно только при помощи слов, а значит, слова нужны не столько как инструмент рассказчика, сколько — как особые знаки, подсказывающие выход.
Одним из таких знаков, на который, как мне кажется, следует обратить внимание, являются колокольчики или бубенцы бадага[6], висящие у двери в доме на Терейро до Паго (про дверь см. выше) — единственная вещь, уцелевшая в огне во время пожара.
В тантрическом буддизме колокольчик (dril bu) символизирует женское начало, высшую мудрость, осознание пустоты. Герой романа в трудные для него моменты читает заговор спокойствия: «пустота в прекрасных занавесях / соловей жалуется / обезьяна удивлена». В китайском языке иероглиф «колокол» (чжон) значит также «проходить испытания» или «развивать, оттачивать». Кроме этой очевидной аллюзии, колокольчики служат в тексте опознавательным знаком пролегающей где-то поблизости границы между явью и делирием.
В последней главе Костас, стоя у двери своей камеры, слышит приближающийся звон железных колокольчиков и понимает, с кем он встретится, если сумеет открыть дверь.
Мне представляется, что основным мотивом книги можно было бы назвать мотив отступления ради возвращения к реальности. Причем на этом пути Костас раздваивается на Костаса, выдуманного Леной Элтанг, и Костаса, выдуманного выдуманным Леной Элтанг Костасом. Встреча этих двух Костасов делает невозможным язык, поскольку, если она произойдет, то и говорить будет не о чем, ибо в этот же момент исчезнет всякая возможность рефлексии, а значит, исчезнет и всякая возможность существования речи.
Однако если эта встреча еще не произошла (пока не произошла), мы можем читать роман и находить в нем те смыслы, которые в данный момент лучше всего соответствуют нашим собственным представлениям об условном и действительном. Если же встреча произошла, то мы спим и видим сон, в котором читаем это послесловие к роману Лены Элтанг «Другие барабаны».
Владимир Коробов,
доктор философии, Вильнюсский университет
«Я чувствовал себя обманутым: здешний мир, состоявший из деревьев, пчел, красной глины и воды, лишился одного из своих элементов, представлявшихся мне неуязвимыми, практически бессмертными»
Хани — honey (англ.) — мед.
Костас пишет: «Мое прошлое — это мертвая вода, заживляющая раны, но не способная возвратить дыхание? А мое настоящее — это вода слабая, чистая и равнодушная, способная поглотить и корабли, и людей, и всяческий смысл?»
«...я должен раз в день посмотреть на огонь, тогда я уверен, что видел что-то настоящее».
«Компьютер мне вернули, я выпросил его до вечера воскресенья, встав на колени и поцеловав следователю ботинок». Ср. также: «Шарик стоил каждый раз по-разному, мне трудно было уловить эти правила, иногда хватало гривенника, а иногда — приходилось лечь на землю и поцеловать ботинок продавцу. Шарики были для меня словом, в них была взрослая ясность, запретный свет, прозрачная низкая логика: отдавая — получаешь. И я отдавал».
Бадага или вадага — племя в горах Южной Индии. Исповедуют шиваизм (Шива, между прочим, ездит на быке). Название бадага означает «северянин».