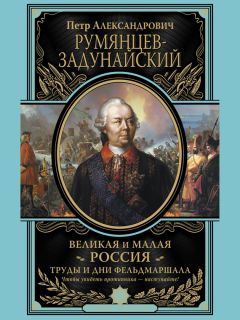Лайош, погрузившись в тишину бельевой, думал, пока не задремал в темноте. Потом за окном заурчала машина и, шурша, унесла семью Хохвартов в город. Барыня вышла в кухню за новыми сандвичами. Неужели и вправду может повернуться мир? Возможно ли, чтобы таких людей, как барин, когда-нибудь стали вешать? Может, прав старый Хохварт, что все это — пустые мечтания?
Переворота Лайош никак не мог себе представить и потому не знал, желать его или не желать. Неужто и у целых народов может мелькнуть в голове что-то вроде того, что у него мелькнуло, когда он потел в дурацкой маске перед господами. А мелькнула у него мысль: сорвать маску, хлестнуть прутом госпожу Хохварт, потом вскочить в балахоне на стол, достать башмаком люстру, и когда все наполнится криками и грохотом, размахнувшись, сорвать с окон занавески. Возможно, был момент, когда Лайош думал такое, но потом покорно стал говорить, что ему велели, разве что с зеленоголовыми одержал маленькую победу да опозорился, напомнив, что и он человек. Так до конца и ломал дурака перед ними, позабыв и о Сегеде, и о клинике, и о смертельной болезни, гнездящейся в теле распяленной сестры.
Кроме марципанового дома, Микулаш, кажется, принес барину еще кое-что: на другой день после обеда он опять появился в саду. Лайош ни разу еще не видел его таким веселым. Была у него какая-то важная новость, только он не знал, как ее выложить. «Знаете, Лайош, похоже, пригодится мне-таки землекопная наука, которую я с вами освоил», — начал он после нескольких лопат. «Да?» — спросил Лайош без особого интереса, но не желая и расхолодить барина. Он уже не суетился, ища себе дело, когда барин забирал его главное оружие, лопату. На тачке возить было уже почти нечего, и Лайош флегматично околачивался вокруг барина, разве что иногда разбивая граблями какой-нибудь большой ком. Тайна барина больше его не интересовала, и от радости его он не ждал ничего особенного; только из дружеского сочувствия бросил он ему это поощрительное «да?». «Соглашение мы с женой заключили. За год приводим дом в полный порядок, чтоб можно было его сдавать. Деньги пойдут на уплату долгов, а мы поселимся где-нибудь в окрестностях, на участке в три-четыре хольда. Будущей осенью высажу там фруктовые деревья». «А со службой что будет?» — спросил Лайош, только чтоб не молчать. «Пока буду ходить в институт: надо ведь жить на что-то. Но я уверен, что года через два-три избавлюсь и от института. Теплицы построю, буду выращивать ранние овощи, а там деревья начнут плодоносить… Сколько человек трудится ради того, чтобы, как гусеница, соткать вокруг себя кокон из несчастья. Но тогда сколько он способен совершить ради свободы! Знаете историю про Иакова и Лавана? Так вот, для меня эти годы тоже станут годами службы». «И барыня обещала?» — осторожно нащупывал Лайош истину. «Да. Она тоже пойдет со мной. Чувствует, что я пропаду здесь. Душа человеческая тоже ведь может гнить и отравлять воздух, как мертвечина. Мне стыдно, что я сорвался тогда; но, может, это нужно было. Она очень хорошая женщина, но неосмотрительная. Не чувствует, опасности. И поздно спохватывается, когда уже нельзя ничего поправить».
Лайош задумался. Рассказать ему историю с местом рассыльного? Она и ему вон пообещала, а выполнить обещание не подумала. Обещания — вещь удобная: человек из-за них работает, не жалеет себя, а потом можно ему шиш показать — и вот он сидит в темной бельевой, а велосипед с ящиком для мехов другой возит. Барина тоже надо как-то заставить заняться домом. Ограду покрасить, сложить из прессованного кирпича подпорки к фундаменту, посыпать красной щебенкой дорожки в саду, террасу обставить ящиками с пеларгонией. Все эти планы Лайош хорошо знал по совещаниям в кухне. Если их напрямик изложить барину, он опять взвоет и перевернет весь дом. Лучше показать конфетку: мол, пойду с тобой куда угодно и буду колышки ставить к помидорам. Тогда и дом вроде не для себя надо украшать, а чтобы другие могли снять. А когда дойдет до дела, жильцов, конечно, не окажется и переселение придется отложить. Знает Лайош все это — с тех пор как его самого надули. Только дивился он, как это у барина-то за столько лет не открылись глаза. Ну что ж, если он так счастлив, не стоит огорчать беднягу.
«И через сколько времени окупится дом?» — спросил он, чтобы показать внимание. «Года за четыре, за пять». — «Так быстро? Тогда и доход от дома можно будет в имение вкладывать». — «Ну нет, — смущенно засмеялся барин. — В этом доме я открою интернат для молодых рабочих». «Да?» — сказал Лайош и теперь окончательно смолк. Так тебе и позволит барыня отдать кому-то свой кафель и новомодные ручки на дверях. Обманывает он себя или на самом деле такой простоватый? Барин, видно, прочел что-то в его глазах, потому что ответил вдруг прямо на его мысли. «Жене я говорить об этом пока поостерегусь. Сейчас она, конечно, на дыбы встанет, а со временем, может, предложит сама». Потом почувствовал, что это тоже нуждается в пояснении: «Женщин в таких делах через сердце лишь можно убедить. Сколько ни доказывай ей, что весь этот мир, где мы живем, неправильный мир, преступный, она все равно не поверит. И не может поверить, потому что не видит, в чем и где вина. За ней вины нет, за мной тоже; а если ни за кем нет вины, то за что же нести наказание? И что бы я ни говорил, все равно убедить ее не удастся. Тут одно поможет — если я раскрою перед ней свое несчастье. Я несчастен, я здесь погибну, пропаду. Пусть считает меня больным — неважно. Но исцелить меня может лишь перемена климата. Пусть мне видятся всюду кошмары, а тебе — нет, брось доказывать мне, что я вижу кошмары, лучше вместе пойдем туда, где я не буду их видеть. Не в том надо ее убеждать, что на господах лежит вина, а в том, что она, если хочет меня сохранить, должна разделить с бедняками их судьбу. С женщинами в таких делах лишь этим путем можно чего-то добиться, конечно, при условии, что женщина тебя любит».
Он говорил приподнято и воодушевленно, словно после долгих поисков нашел тот единственный ключ, который откроет дверь к счастью. Лайош даже заколебался немного в своем отношении к бариновым идеям. Можно ли сомневаться в том, что барыня любит мужа? Не дрожала ли под нею в ту ночь кровать, словно сотрясаемая невидимым грузовиком? И если ей в самом деле придется встать перед выбором: или муж твой погибнет, или ты пойдешь за ним на край света, кто решится твердо сказать, что она не предпочтет край света? Но окажется ли она когда-нибудь перед таким выбором? Не закроет ли глаза в самый последний момент? Муж ее будет гибнуть, а она все будет твердить: это болезнь, это пройдет, я должна быть непреклонной в твоих же интересах. И разве она не права? Разве все это не пустое нытье? Если б он, Лайош, получил такой дом да к нему должность в исследовательском институте, он был бы счастлив — только Тери еще приучить бы к себе. У него нет вот возможности ломать голову над такими вещами. Тери с ним все равно никуда не пойдет, хоть жив он, хоть мертв. Разве что шубу ей купит или золотой ридикюль. Этого человека любят. Пускай хозяйка обманывает его, но она его любит. Есть ли в мире что-нибудь более важное? Можно ли этим бросаться?
Пока они разговаривали, в сад вышли дети. Выпустили их, закутав, как в суровый мороз. На Жужике был лыжный костюм и новое, с запасом на несколько лет, зимнее пальто. Тибике ковылял позади в длинной шубке до пят, оставшейся от сестры. Они вышли толстые и неуклюжие, словно два эскимоса среди снежных полей. Барин и им крикнул: «Эй, шевелитесь, буржуи, ничего, если испачкаетесь немного». И, чтобы Тибике тоже понял его, протянул малышу черенок лопаты, а сам, взявшись за лезвие, поскакал по грязной траве. Тиби с восторгом включился в игру: падая то и дело, волочась на спине, с трудом поднимаясь в своей шубе, он ни за что не желал отпускать черенок. Жужика к чистой одежде относилась с большим почтением. Она и с завистью, и с неодобрением смотрела на расшалившихся мужчин, а когда те звали ее, отходила в сторонку. «Не-ет», — отвечала она без объяснений и смотрела в сторону дома: не вмешаются ли женщины в странную эту забаву, которую правила приличия осуждали, но веселое отцовское настроение делало дозволенной. Из дома, однако, никто не бежал с возмущенными криками, как в тот день, когда Лайош сманил к себе Тиби и гувернантка, теряя туфли, брела к ним через грязь. Отсюда и Лайош сделал вывод, что в доме случился переворот. Гувернантка была существом, призванным загонять детей в дом и приводить их в порядок. Если ее не было видно, значит, кто-то посадил ее на цепь. Лайош смотрел на быстро чернеющую белую шубку Тиби как на знамя восстания, поднятого против гадюки. «Ступайте и вы, Жужи», — подстрекал он стоявшую рядом девочку, но та не решалась вступить в ряды повстанцев столь легко, как Тиби. «Я испачкаюсь». — «Ну и что! Пускай немка чистит», — сеял революционное учение Лайош.
Оставив лопату добычей сына, к Жужике подошел и барин. Он попробовал повлиять на нее с другой стороны. «Хочешь, чтоб у тебя был свой сад? Осенью, как переселимся на ферму, сделаем тебе отдельный маленький садик. Всяких растений там посадим по штуке: фасоль, помидоры, картошку, щавеля грядку. Будет у тебя своя лопаточка, грабли, лейка, и каждое утро сама будешь все поливать». Жужика с недоверчивым интересом слушала отца, который только что на ее глазах прыгал и носился самым невероятным образом, нарушив ее представления о приличии и порядке. «Я актрисой хочу быть. Мамочка запишет меня в балетную школу, и я буду выступать в детском театре». — «А, это скучно, — лицемерил отец. — Там надо много учиться. А в твоем саду мы посадим черешню, и на нее, кроме тебя, никому нельзя будет влезать. На две ветки доску положим, как на качелях. Деревце будет расти, а мы все выше будем класть доску. Когда зацветет черешня, сорвем одну ветку, согнем ее кольцом, как корону, и наденем тебе на головку. И будешь сидеть на дереве выше всех. А пчелы станут летать над цветами и жужжать: „Вот сидит Жужика, Жужика, черешневая принцесса“». «Пчелы жалятся», — слабо сопротивлялась Жужика, хотя революционные речи уже заставили ее раскрыть широко глаза. «А мы в твоем садике посадим бисквитный цветок: до кого тем цветком дотронешься, на того пчелы не станут садиться». Бисквитный цветок сломил сопротивление Жужики. «И маленькая тачка будет в садике, землю возить?» — «Конечно, ты ведь будешь там садовником, а Тиби — твоим помощником». Жужика, сдавшись, улыбалась. «А в саду нельзя сделать театр?» — «Конечно, можно. Я буду ореховый король, мама — миндальная королева, а ты — черешневая принцесса». — «А Тиби?» — «А он будет зеленый клоп», — рассмеялся барин и посадил сына себе на шею. «Видите, как легко их покорить. — Барин в щель между двух уцепившихся за него рук посмотрел на Лайоша. — Много надо, чтоб измучить себя, и всего десятой части достаточно, чтобы нас полюбили».