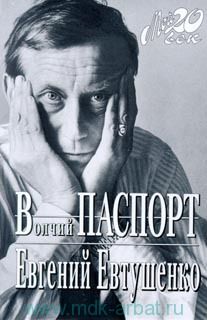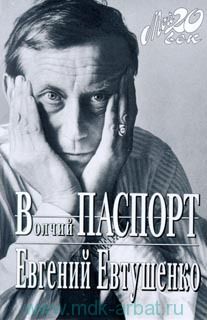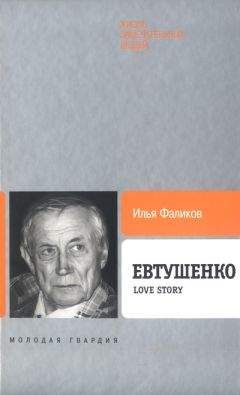Ровно посередине Амазонки горел пароход.
Пароход был маленький, обшарпанный, под эквадорским флагом. По пылающей палубе метались люди. Но в воду они броситься боялись, потому что Амазонка кишела пираньями, оставляющими в течение минуты только скелет от человеческого тела. Две спущенные на воду лодки перевернулись, ибо были перегружены, и ни один из людей не выплыл. Трагедия оставшихся на борту людей была в том, что пароход горел именно посередине.
Несколько индейцев на перуанском берегу, где стоял и я, бросились к своим каноэ, но начальник полиции остановил их:
— Не суйтесь не в своё дело… Всё-таки это ближе не к нашей, а к бразильской территории… Нейтральные воды… К тому же эквадорский флаг. Я даже не помню, какие у нас с ними политические отношения…
На другом, бразильском, берегу тоже виднелись безучастно созерцающие фигуры.
— Всё-таки это ближе к перуанской территории… — наверно, сказал тамошний начальник полиции и тоже замялся по поводу отношений на сегодняшний день с Эквадором.
Корабль медленно потонул на наших глазах вместе с остатками команды. Ничего нет страшней, когда люди брошены другими людьми.
Я долго не спал той ночью в посёлке охотников за крокодилами Летиции и почему-то вспомнил бульдозериста на Колыме Сарапулькина. Он бы не бросил.
Внутри пирамиды Хеопса
подавленно,
сыро,
запуганно.
Крысы у саркофага
шастают в полутьме.
А я вам расскажу
про саркофаг Сарапулькина,
бульдозериста
на Колыме.
Сарапулькин вышел не ростом,
а грудью.
Она широченная —
не подходи,
и лезет сквозь продранную робу грубую
рыжая тайга
с этой самой груди.
И на груди,
и на башке он рыжий,
а ещё на носу,
на щеках
и на ушах!
Хоть бы поделился веснушкой лишней!
Весь он —
как в золоте персидский шах!
Вот он выражается,
прямо скажем, крепенько.
Рычаг потянул
и на газ нажал,
зыркая
из-под промасленного кепаря,
такого, что хоть выжми
и картошку жарь!
Шебутной,
баламутный,
около мутной
от промытого золота Колымы,
в своё выходное
заслуженное утро
Сарапулькин
ворочает
валуны.
Он делает сигналом
предостережение
сусликам,
выскочившим из-под корней,
и образовывается
величественное сооружение,
а не бессмысленная
гора из камней.
Ни на Новодевичьем,
ни на Ваганьковском
ничего подобного,
так-перетак!
«Слушай, Сарапулькин,
ты чо тут наварганиваешь?» —
«Я,
товарищ,
строю себе саркофаг». —
«Ты чо — рехнулся?
Шарики за ролики?
Ты чо,
вообразил, что ты — фараон?» —
«А ну отойдите от меня,
алкоголики,
или помогайте.
Не ловите ворон.
Я —
против исторического рабства и холопства.
Любого культа личности —
я личный враг.
Но чем я,
спрашивается,
хуже Хеопса?
Поэтому я строю себе саркофаг.
В России,
товарищи,
фараонами
рабочий класс
называл городовых.
Всё лучшее сработано
рабочими мильонами,
а где —
я спрашиваю —
саркофаги у них?
Я ставил себе памятник
мостами и плотинами.
За что меня в могилу пихать,
как в подвал?
Я никого
никогда
не эксплуатировал
и себя
эксплуатировать
не давал.
Я, конечно,
не Пушкин и не Высоцкий.
Мне мериться славой с ними нелегко,
но мне не нравится совет:
«Не высовываться!»
Я хочу высовываться
высоко!
Представьте,
товарищи,
страшную жизнь Пугачёвой —
к ней всё человечество лезет,
ей пишет,
звонит.
А я — похитрей.
Мне не надо прижизненной славы дешёвой.
Я хочу после смерти быть знаменит!
По мнению скромников,
это нескромно,
неловко,
а я себе строю…
Пусть думает там, в Пентагоне,
какой-то дурак,
что сооружается новая ракетная установка, —
а это Сарапулькин
строит себе саркофаг!
«Что это за штука?» —
спросит,
гуляя с детьми-крохотульками,
в трёхтысячном году
марсианский интурист.
А ему ответят:
«Саркофаг Сарапулькина!
Был на Колыме
такой бульдозерист».
Ну что — помогаете
или за водкой потопали?
Вижу по глазам —
вам нужен фараон.
Кстати,
работаю исключительно на сэкономленном топливе,
так что государству
не наносится урон.
В ларёк опоздаете?
Эх вы, работяги!
Вы — не класс рабочий,
а так,
лабуда.
Делали бы лучше вы себе саркофаги,
может быть, пили бы меньше тогда…»
И всех фараонов отвергая начисто,
а также алкоголиков,
рвущихся к ларьку,
он их посылает
на то, чем были зачаты…
Это —
сарапулькинское фуку!
Антонио Грамши когда-то сказал: «Я — пессимист по своим наблюдениям, но оптимист — по своим действиям».
Я видел разруху войны,
но и мир лицемерный — разруха.
У лжемиротворцев —
крысиные рыльца в пушку.
Всем тем,
кто посеял голод и тела,
и духа, —
фуку!
Забыли мы имя строителя храма Дианы Эфесской,
но помним, кто сжёг этот храм.
Непомерный почёт фашистёнку,
щенку.
Всем вам,
геростраты,
кастраты,
сажавшие,
вешавшие, —
фуку!
Достойны ли славы
доносчики и лизоблюды?
Зачем имена стукачей
позволять языку?
А вот ведь к Христу присоседилось липкое имя Иуды —
фуку!
За что удостоился статуй
мясник Александр Македонский?
А Наполеон — Пантеона?
За что эта честь окровавленному
толстяку?
В музеях, куда ни ткнешься, —
прославленные подонки…
Фуку!
Усатым жуком навозным
прополз в историю Бисмарк.
Распутин размазан по книгам
подобно густому плевку.
Из энциклопедий всемирных
пора уже сделать бы высморк —
фуку!
А ты за какие заслуги
ещё в неизвестность не канул,
ещё мельтешишь на экране,
хотя превратился в труху,
ефрейтор, колумб геноцида,
блицкрига и газовых камер?
Фуку!
И вам, кровавая мелочь,
хеопсы-провинциалы,
которые лезли по трупам —
лишь бы им быть наверху,
сомосы и пиночеты,
банановые генералы, —
фуку!
Всем тем, кто в крови по локоть,
но хочет выглядеть чистенько,
держа про запас наготове
колючую проволоку,
всем тем, в ком хотя бы крысиночка,
всем тем, в ком хотя бы
фашистинка, —
фуку!
Джек Руби прославленней Босха.
Но слава ничтожеств — ничтожна,
и если нажать на кнопку
втемяшится в чью-то башку,
своё последнее слово
планета провоет истошно:
«Фуку!»
Сикейрос писал мой портрет.