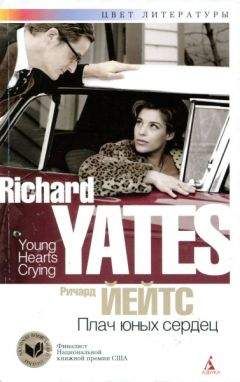— Ну, просто ты все время суешь свой нос в личную жизнь других людей, дорогая моя.
И Элис отошла с оскорбленным видом — в последнее время это выражение появлялось у нее на лице чаще, чем у ее матери или брата.
Семейство Тауэрсов старалось в основном не попадаться Элизабет на глаза, и Нэнси тоже; складывалось впечатление, что в доме поселился посторонний человек. Она тяжело спускалась по лестнице на своих шпильках, стояла у окон в гостиной, глазея в глубокой задумчивости на Почтовое шоссе, нехотя поглощала все, что бы ни положили ей на тарелку, и много пила после обеда, с раздражением пролистывая кучу разных журналов, — при всем этом Элизабет, казалось, не замечала, сколько неудобств она создает окружающим.
Как-то вечером, когда дети давно уже были в постели, она отбросила в сторону «Нью-Репаблик» и заявила:
— Люси, у нас, кажется, ничего не получается. Мне очень жаль, потому что идея сама по себе прекрасная, но нам, судя по всему, надо начинать подыскивать отдельное жилье.
Люси сидела как оглушенная.
— Но мы же подписали контракт на два года, — проговорила она.
— Ну и что? Я разрывала контракты раньше времени, да и ты тоже. Кто их не разрывал. Видимо, нам с тобой такая жизнь просто не подходит — вот и все, да и детям тоже не нравится, так что давай ее прекратим.
У Люси было такое чувство, будто ее бросил мужчина. Она сделала над собой усилие, чтобы быстро справиться со слезами, — она понимала, что плакать по такому поводу смешно, — и спросила с некоторым колебанием в голосе:
— А ты, значит, переедешь в город? К Джаду?
— О боже мой, нет. — Элизабет встала и заходила по ковру. — Это трепло. Надменный позер, пьяный сукин сын, — но как бы то ни было, он со мной порвал. — Она горько усмехнулась. — Видела бы ты, как он со мной порвал. Слышала бы ты. Нет, я поищу что-нибудь типа того, что у меня было, или, может, что-нибудь получше, где можно будет просто сидеть тихо и в одиночку… заниматься своими делами.
— Элизабет, мне бы хотелось, чтобы ты хорошенько это обдумала. Я знаю, у тебя была трудная зима, но это ведь с твоей стороны несправедливо. Послушай, выжди пару недель или месяц, а потом уж решай. Потому что здесь ведь есть и преимущества — ну, или могут быть. И потом, мы же друзья.
Слово «друзья» повисло в воздухе, и Элизабет на некоторое время замолчала, будто присматриваясь к нему. Люси уточнила:
— Я имею в виду, что у нас бесспорно много общего, и потом, мы…
— Ничего у нас нет общего. — Глаза Элизабет блеснули злобой, которой Люси никогда в них не видела. — У нас вообще нет ничего общего. Я коммунистка, а ты, наверное, голосовала за Альфа Лэндона[9]. Я всю жизнь работаю, а ты пальцем о палец не стукнула. Я никогда даже не задумывалась об алиментах, а ты на них живешь.
Люси Тауэрс ничего не оставалось делать, как молча убраться из комнаты, подняться наверх, лечь в постель и ждать, когда ее начнут душить рыдания. Но она уснула раньше, чем это произошло, — наверное, потому что тоже немало выпила в тот вечер.
Стояла уже ранняя весна. Они вместе прожили в этом доме шесть месяцев, и конец всего этого уже носился в воздухе. Говорили об этом мало, но все чувствовали, что последние дни не за горами.
Рядом с домом, на другой стороне, чем дом Гарри Снайдера, располагался пустырь, на котором хорошо было играть в войну: кое-где росла высокая трава, в которой можно прятаться; были тропинки и открытые площадки, покрытые слежавшейся грязью: здесь можно было разыгрывать пехотные сражения. Как-то днем Рассел долго болтался на пустыре один, — наверное, думал, что, быть может, гуляет там в последний раз, но без Гарри делать там было, в общем-то, нечего. Он уже направлялся домой, когда поднял глаза и заметил, что Нэнси наблюдает за ним с заднего крыльца.
— Чем ты там занимался? — спросила она.
— Ничем.
— Мне показалось, ты ходил кругами и разговаривал сам с собой.
— Ну да, — ответил он, и лицо его приняло идиотское выражение. — Я все время сам с собой разговариваю. Разве другие не разговаривают?
К его огромному облегчению, она вроде бы сочла его шутку забавной и даже наградила его приятным коротким смешком.
И вот они уже гуляли по пустырю вместе, и он показывал ей основные достопримечательности последней военной кампании. Вон за той травой Гарри Снайдер прятал свой пулемет, по этой тропе Рассел вел свой воображаемый отряд, и первая же очередь сразила его прямо в грудь.
Чтобы воспроизвести эту сцену, он рухнул в грязь и замер.
— Когда вот так получаешь пулю прямо в грудь, уже ничего не сделать, — объяснил он, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. — Но хуже всего, когда граната попадает тебе в живот. — И за этим последовало еще одно падение с демонстрацией мучительной смерти.
Когда он умер для нее в третий раз, она поглядела на него задумчиво.
— Тебе страшно нравится падать, правда же? — спросила она.
— А?
— Ну, то есть тебе больше всего нравится, когда тебя убивают, да?
— Нет, — стал защищаться он, потому что по ее тону можно было понять, что в подобном предпочтении есть что-то нездоровое. — Нет, я просто… ну, не знаю…
И хоть удовольствие было теперь подпорчено, они мило поговорили по пути домой; нельзя было отрицать того, что хоть на некоторое время между ними установились товарищеские отношения.
Под впечатлением от этой прогулки Рассел на следующий день, во время обеденного перерыва в школе, вбежал в дом с заднего крыльца, чтобы сообщить ей нечто важное.
Она пришла домой раньше и уже сидела на диване в гостиной, обложившись подушками, и глазела в окно, наматывая темный локон на указательный палец.
— Привет! — сказал он. — Тут такой прикол. Знаешь Карла Шумейкера — такой большой парень из вашего класса?
— Конечно, — ответила она. — Я его знаю.
— Ну вот, выхожу я сейчас из школы, а Карл Шумейкер стоит с двумя другими парнями на спортивной площадке. И вот он мне кричит оттуда: «Эй, Тауэрс, хочешь путевку?» — а я и спрашиваю: «Какую путевку?» — «Путевку в жизнь. Только предупреждаю: хлюпикам ее не дают». Я спрашиваю: «А кто тут хлюпик?», а он отвечает: «Разве не ты? Я слышал, ты настоящий хлюпик. Потому и предупреждаю». И я тогда сказал: «Слушай, Шумейкер. Предупреждал бы ты лучше кого-нибудь другого». И еще потом сказал: «Если очень хочется кого-то предупредить, поищи лучше другого».
Диалог был пересказан довольно точно, и Нэнси, похоже, выслушала его с интересом. Только вот в последней реплике слышалось теперь что-то неокончательное, будто можно ожидать неприятного продолжения истории, когда он снова пойдет в школу.
— Ну и после этого они, типа, улыбнулись и ушли, Шумейкер и два этих парня. Думаю, они больше не будут со мной связываться. Но вообще вышло как-то… как-то забавно.
Теперь он уже не понимал, зачем он ей все это рассказывал, — можно ведь было поговорить и о чем-нибудь другом. Глядя, как она сидит на диване, в полуденном свете, он представил себе, как она будет выглядеть, когда вырастет и станет красивой.
— Значит, он сказал, что слышал, будто ты хлюпик, да? — проговорила она.
— Ну да, сказал, что он слышал, но не думаю, что…
Она наградила его долгим, коварным взглядом, в котором читался яростный вызов.
— Интересно, — сказала она, — от кого же он мог это слышать?
Высвободив большие пальцы из-под ремня, Рассел — с выпученными глазами, ошеломленный ее предательством — медленно попятился от нее по комнате. Уже у дверей он увидел, что коварство сменилось у нее на лице страхом, но было поздно: они оба знали, что он теперь сделает, и его было уже не остановить.
Он встал у лестницы и закричал:
— Мама! Мама!
— Что случилось, милый? — Люси Тауэрс, крайне обеспокоенная, показалась на площадке. На ней было «чайное» платье, как она его называла.
— Нэнси сказала Карлу Шумейкеру, что я хлюпик, а он рассказал другим, и теперь все говорят, что я хлюпик, а это неправда. Неправда.
Люси величаво спустилась вниз — иной манеры ее чайное платье не терпело.
— Вот как. Ну что ж, мы обсудим это за обедом.
Элизабет дома никогда не обедала, Элис ела в школьной столовой, так что за столом они сидели втроем: Рассел с матерью с одной стороны, Нэнси — с другой. Отвести напор величавой, страстной и безжалостной речи, которую произносила Люси, было некому.
— Я поражена тем, что ты сделала, Нэнси; твой поступок очень меня беспокоит. Так не поступают. За спиной у друзей не врут и не распускают злобные слухи. Это все равно что воровать или мошенничать. Это отвратительно. Нет, есть, наверное, люди, которые так себя ведут, но мне бы не хотелось сидеть с ними за одним столом, или жить в одном доме, или даже считать их своими друзьями. Ты понимаешь меня, Нэнси?
Домработница вошла с тарелками — сегодня на обед была телятина с картофельным пюре и горохом — и задержалась у стола, чтобы бросить на Люси преисполненный скрытого упрека взгляд. Никогда еще не работала она в таком доме, и никакого желания снова попасть в такой же у нее не было. Одна дама славная, другая ненормальная и трое вечно грустящих детей, — ну что это за дом? Ну, скоро это, похоже, кончится — она уже сказала в агентстве, чтобы ей искали новую работу, — но сейчас-то должен же был кто-то заткнуть эту ненормальную, пока она не заругала девчонку до смерти.