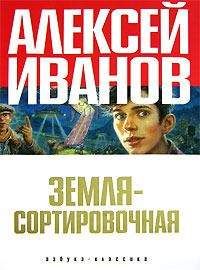— Ну, — поддакиваю заинтересованно.
— Не нукай, не оседлал… Процесс возбуждения любви идет в четыре этапа. Первый — приготовление зелья–экстракта из дурманил, эмоциогенов и кровососных трав. Второй — самоочищение. Там свои фазы, но о них потом. Третий — очищение экстракта. То есть добавляешь в него свою кровь и смесь пропускаешь через перегонный куб на огне семилетнего сухостоя. Тогда и получается непосредственно зелье. Любовь и кровь — это тебе не банальная рифма, а отраженное в идиоме поэтическое осмысление глубинной сущности явления. И четвертый этап — очищение возлюбленной. Тихонько подсунешь своему Хвостику зелье, она выпьет, чувства окрепнут, суенравие сойдет на нет, и разбуженное сердце потянется к тому, чьей кровью возбуждено. Просто?
— Ну, да… — соглашаюсь, подумав.
— Вот тут я тебе травы выписала, по латыни и просторечные названия, — говорит Танька, доставая какую–то бумажку. — Со своими дураками собери их для экстракта. Если засомневаешься — посмотри по определителю или сходи к Пальцеву. Все?
— Все, — киваю я. — Вот и ЛЭП.
Танька улыбается мне, делает ручкой и разворачивается. Отойдя немного, она вдруг прыгает вверх, превращается в птицу и над дорогой улетает обратно к биостанции, громко хлопая крыльями.
Я перебираюсь через лужу в канаве, через бурьян и иду по петляющему между опор ЛЭП проселку. Надо мной висят стрекочущие провода. Проселок задавлен лениво выбирающимися из земли сизыми валунами в рыжем меху, стиснут лесом и задушен малинником. Над дикой рожью и гречихой между камней воздух тихо трепещет. Вышки ЛЭП, качаясь, шагают мне навстречу, перешагивают меня и уходят назад. Мне кажется, что что–то не так. Я задираю голову и в ослепительно синем небе вижу белую луну и слабое мерцание звезд, словно зеркало на дне реки. Тающие огни усыпали все небо. Мне опять становится жутковато.
Поднимаюсь на пригорок и вижу Тимофея Улыбку, который сидит на бетонном башмаке опоры. Заметив меня, он начинает ухмыляться. Я не спеша подхожу и, согнав шмеля, усаживаюсь напротив него на торчащий из травы изгиб огромной автомобильной покрышки.
— Так, значит, из городу приехал?.. — осведомляется Тимофей.
Премерзкая, скажу я вам, у него улыбка.
— Ага, — говорю.
— И как там?
— Нормально, — осторожно отвечаю.
— И значит, как приехал, так Кондея моего и обозвал, да?
Он поднимает ладонь, и я вижу под ней пса с высунутым языком. Я сбит с толку и молчу.
— А троллейбус не ты приваживаешь? — проницательно смотрит на меня Тимофей.
— Какой троллейбус?.. — нервничаю я.
— Да ты не ври, не ври, землячок, — ласково так, сволочь, убеждает. — Я же все равно косточки твои обсосу. Уйду на кудыкину гору за семь тропинок три притопочки, сяду на кол и обсосу. Так что давай говори, а то в валета превращу…
— Да не знаю я про ваш троллейбус!.. — воплю я в ужасе.
— Не знаешь?!. — орет Тимофей, вскинувшись, но тотчас съеживается, только улыбка его проклятая еще шире расползается. — Ну, ладушки, ладушки… Только вот на мухоморе–то зубки человеческие отпечатались… Понял, землячок? Ты учти это, бойся…
— Чего мне бояться?.. — трясясь от страха, протестую я.
Тимофей еще раздвигает улыбку, и я вижу, что она уже стала шире лица — губы висят в воздухе по обе стороны головы.
Волосы колыхаются на моем затылке.
— А кто Утопленника надумал хватать? Лето настало, человек утомился на дне жить, вышел на солнышке полежать, а его давай за руки–за ноги в «скорую помощь»! Живого–то утопленника — и в морг!.. — тут я дар речи теряю, а Тимофей все говорит, да расплывается, да глазками хитрыми светит. — Ты строй ангелочка–то, строй… Все равно никуда не кинешься, ноженьки–то — ап! — мертвенькие!..
Я роняю взгляд на колени и вправду чувствую, что ноги немеют.
— Я тебя, сердынько, еще до кукушкина плача съем. Не увидишь ты, как придут за тобою девять волчьих голов на крысиных хвостах, не услышишь, перышко ты мое, как воробышки завоют!.. — он вдруг резко наклоняется ко мне, приближаясь сразу на полтора метра, а я подпрыгиваю, окатываясь ледяным потом. — А кто на Бабкином лугу микрорайон построил?.. — хрипит он. Улыбка у него уже, наверное, метр от края до края и все растет, растет… — Мы и глазом моргнуть не успели, а там уже котлованы и краны, а?.. Это на Бабкином–то лугу, на зенице ока?..
— Да отстаньте вы от меня! — не выдержав, воплю я. — Чего ко мне привязались?.. Не знаю я ничего!.. Сам–то кто такой?!.
— А сторож я, — улыбаясь, вдруг тихо и добродушно поясняет Тимофей. — Биостанцию вот сторожу, баню, чтоб не бродила, дорогу, лес вот, реку, чтобы не виляла, плотину, чтобы злые люди не заминировали, водохран… Да все сторожу, мир сторожу, небо, звезды, космос!.. Я же здесь не к вам, дуракам, приставлен, а к Великой Дыре за Багаряком, из которой время течет…
— Какое время?.. — совсем опешиваю я.
— Ну, землячок, как это — какое? Нормальное… Сугубо Человечее. Ведь только человек его ощущает, а природа–то вечна, ей что минута, что миллион лет… Вот у нас, на Земле, источник времени здесь. А я караулю, чтобы не уперли.
— А я тут причем?! — вою я, хватаясь за башку. Мне понятно все, кроме одного — каким образом я тут замешан?!
— А тебя я сожру!! — звериным голосом рычит Тимофей и бросается на меня. Пасть его распахивается по всей своей неимоверной ширине, и две сотни зубов сверкают на солнце.
Я каким–то образом оказываюсь уже в кусте малины. Пока Тимофей перелезает покрышку, я кидаюсь прочь по заросшим гречихой рытвинам и рассохшимся пням. Тимофей необычайно ловко и быстро карабкается за мной, качая своей улыбкой, как самолет крыльями, и над улыбкой желтым светом пылают два его глаза.
Я долетаю до опушки и чешу дальше, не чуя от страха ног под собою. Тимофей своей улыбкой врезается в лес и ворочается позади, не в силах продраться двухметровыми губами между деревьев.
— Ну, землячок!.. — кричит он. — Жди своего, коли ушел!.. Повезло тебе, что мне доброта моя жрать тебя не позволяет!..
А я бегу, бегу, бегу, да по лесу, по лесу, по лесу, да по лугу, по лугу, по лугу, да вниз с холма по пальцевским грядкам с опытными посевами, да через забор на биостанцию.
Злобные недоумки
С утра по распоряжению Пальцева все пошли строить теплицу, а Маза решил собирать травы из полученного списка. Сначала он попытался уговорить Барабанова пойти с ним. «Ага, — сказал Толстая Грязная Свинья, — сейчас все свои важные дела брошу и пойду с тобой ерундой заниматься, а ямы будет рыть Александр Сергеевич Пушкин». Тогда Маза забрал массивный том «Определителя высших растений», принадлежащий Николаю Маркову, и отправился один.
Он вышел на луг, по которому гулял ромашковый бриз, сел на склоне берега и открыл талмуд. На титульном листе справочника, где значился коллектив соиздателей из шести академиков и восемнадцати професоров, рукою Свиньи было написано: «Николаю Маркову в знак благодарности за помощь при написании этой книги от автора». Маза нашел по оглавлению «плантаго майер», необходимый в зелье для крепости любви в странствиях, скитаниях, паломничествах и поисках истины, и углубился в созерцание.
— Здравствуй, — услышал он через некоторое время над собой и, подняв голову, увидел Бобриску.
Это было прелестное кудрявое существо с глазами полными покоя и веры в человека. Оно было столь непорочно и чисто, что в его присутствии даже белый медведь мог почувствовать себя бурым. Солнечный свет вокруг него тихо трепетал от нежности и умиления. Звали Бобриску Ирочкой Бобровской.
— Зачем у тебя определитель? — спросила Бобриска. — Это ничего, что я вмешиваюсь?..
— Ничего, — сказал Маза. — Мне надо найти эти растения.
— А почему твои друзья тебе не помогают?
— Не друзья они мне, — мрачно сказал Маза, — а ренегаты.
— Хочешь, я тебе помогу? — предложила Бобриска.
И до обеда они добросовестно ползали в чаще трав среди хортобионтов по всему лугу, от дальней сосновой опушки до блещущей реки, а над их головами вращался сумасшедше–синий небосвод, да с каждым часом со всех сторон все сильнее стискивало чудовищное давление зноя.
Набрав огромный букет, Маза отнес его на биостанцию в гербарную комнату и пошел в домик к недоумкам, которые на обеденном перерыве, откушав, собирались пить чай.
— И мне чаю, — сказал Маза, входя.
— Правильно!.. — закричал Ричард со звоном в голосе. — Теперь мне кружки уж точно не достанется!..
Маза сел на койку и сообщил:
— Никто, никто не хотел помочь мне собирать траву. Я пришел, чтобы засвидетельствовать вам свое презрение.
— Адекватно, — строго ответил ему Николай Марков для интеллектуализации беседы.
Николай Марков был очень, очень высок, тощ и мрачен. Глаза его смотрели только прямо и никогда не мигали. На его, по выражению недоумков, «поросшем бровями» лице лежал отпечаток загадки и иномерного знания.