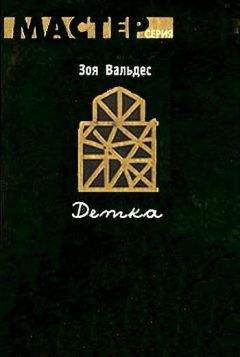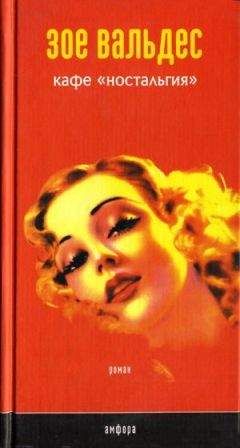Однажды вечером, вернувшись домой, я увидела, что Реглита возится с банкой русской сгущенки. Я спросила ее, во что она играет, и она ответила, что хочет приготовить коктейль «Молотов», чтобы убить меня. Ей было уже семь, и она никогда не называла меня «мама», а только «ты» или «Кука». Мечунга была у нее Мамочкой, а Пучунга, соответственно, Мими. От всего этого с человеком может случиться эпилептический припадок или инфаркт. Тогда я поняла, как слепа была эти годы, как далека от своей дочери. А та распевала чудовищные песни про бомбардировки и славные победы. Шла война во Вьетнаме, и в моде была песенка:
Бежит через лес маленький Ли,
а вслед пулемет строчит: тра-та-та.
Но маленький Ли бежит через лес,
он на занятия в школу спешит…
Сегодня, видя, как изменилась жизнь в этой братской азиатской стране, я спрашиваю себя, чем-то занимается теперь маленький Ли? Скорей всего, он – преуспевающий менеджер какого-нибудь совместного американо-вьетнамского предприятия. Да, так вернемся к Марии Регле, характер которой ужасно меня беспокоил. Я справилась в школе насчет ее поведения, и меня проинформировали о том, что «компаньерита Мария Регла Мартинес ведет себя совершенно нормально, отличается боевитостью, дисциплинированностью, смекалкой». Две последние характеристики удивили меня куда меньше, чем первая, яркое подтверждение которой я уже успела получить. Боевитость ведь могла означать и подспудное желание разделаться с собственной матерью. Когда я – ласково и словно бы между прочим – спросила ее, почему она хочет меня убить, она преспокойно ответила:
– Потому что у меня нет отца. Он враг. А у врагов нового общества не может быть таких революционных детей, как я – новых людей. А виновата ты, потому что ты мне такого отца устроила.
Мечу и Пучу взглянули на меня широко раскрытыми глазами, в которых стояли слезы. Я села напротив дочери, взяла за руки и сказала просительным тоном, каким обращаются к вам бродяги, собирающие на улицах окурки:
– Прости, мы так давно не говорили по душам. Но я хочу объяснить тебе кое-что. Твой отец не враг. Твоему отцу пришлось уехать, уехать далеко, но когда-нибудь он обязательно вернется, и вы познакомитесь… Кто тебе сказал, кто тебе сказал, доченька, что твой отец враг и что поэтому он не с нами?
Ни один мускул не дрогнул на ее маленьком худеньком личике, она даже не ответила на мой взгляд. Только укор прозвучал в сухих, затверженных словах:
– Это мнение нашей пионервожатой.
Из ресторана я ушла. Попросила перевести меня смотрителем пляжных кабинок в Наутико. Поскольку я больше не принимала участия ни в каких добровольных работах, то теперь у меня не было права приобрести ни стиральную машину «Аурика», ни будильник «Слава», ни вентилятор «Орбита», который поставлялся в комплекте с советскими холодильниками для их разморозки и который продавался отдельно, чтобы хоть как-то бороться с удушающей летней жарой, ни телевизор «Электрон» или «Рубин». В результате я утратила все свои заслуги и привилегии, и больше мне уже не давали почетных медалей. Впрочем, мне было все равно – скандалы или почести. Прежде всего меня интересовала дочь. Вставали мы чуть свет, я отводила ее в школу, ехала на работу на двадцать втором автобусе и в пять забирала. По субботам и воскресеньям она ездила со мной. В каникулы она каждый день отправлялась на пляж. Она гордилась тем, что ее мама – наконец она стала называть меня мамочкой – работает, как она выражалась, труженицей моря, смотрителем пляжных кабинок. Но об отце она по-прежнему не хотела ничего знать, да что там знать – даже слышать.
Вечерами мы сидели вместе на Малеконе, считали звезды, загадывали желания. Однажды упала очень яркая звезда, и мы загадали, чтобы нам никогда не расставаться.
Между тем в Гаване все чаще можно было видеть людей в повстанческой форме, ополченцев, студентов, крестьян. Кругом говорили о невероятных урожаях сахарного тростника, о том, что, если потребуется, надо отдать всю свою кровь до последней капли и спуститься на дно морское, если в том возникнет нужда. Урожаи оказались сплошным бахвальством, многие отдали всю кровь до последней капли в никому не нужных войнах, другие предоставили себя на съедение акулам и сгинули в морской пучине, стремясь отыскать лучший мир. Тот мир, который мы не смогли построить, потому что нам связали руки и подавили нашу мысль, мир, который у нас украли безумцы, одержимые манией власти и величия. Жизнь наша ничего не стоила, когда мы нанесли поражение американскому империализму на Плайя-Хирон. Победа дала нам ощутить вкус будущего, мы поверили в то, что побеждать – это дар, который ниспослан нам безвозмездно, и не богами, а Советами. Нас заставили поверить, что мы бессмертны.
Унизительное отношение, однако, день ото дня становилось все очевиднее. Как-то раз Реглита, уже немного подросшая, уселась на кровати и, подперев ладонями лицо, сообщила, что отныне она отказывается ходить в гости к Пучунге и Мечунге. В школе ей сказали, что эти женщины проститутки. Тут же я услышала от нее два новых словечка: Фала и Фана, что-то вроде «члена» и «триппера». Как могла моя обожаемая девочка так спокойно, равнодушно произносить эти грубые слова? Первоклашки, выходя из школы, кричали в адрес моих подруг нечто настолько немыслимое и оскорбительное, что невозможно было даже представить такое в детских устах. Реглита опрометью убегала, едва завидев своих псевдотетушек. Постепенно поветрие стало принимать ужасные размеры – соседи принялись открыто над ними издеваться, что, мол, они лесбиянки и поэтому у них нет детей, что они отсасывали у миллионеров, у богатеев, что они буржуазные шлюхи… Запахло жареным, а тут еще как назло власти начали организовывать на местах комитеты защиты революции, а потом и федерацию кубинских женщин… Стали собирать собрания, товарищеские суды; я испугалась, что дело может зайти совсем далеко, и… подняла руку:
– Прошу слова, товарищ, я считаю, что мы должны дать этим двум товарищам, Мечунге и Пучунге, возможность исправиться и примкнуть к нашему новому сообществу. Предлагаю поручить им надзор за здравоохранением в комитете и федерации соответственно.
Никогда не слышала больше такого абсолютного молчания. Потом вскочил какой-то тип, заорал и замахал руками:
– Е моё, и вы еще хотите принимать в наши революционные ряды всяких вонючих шлюх и лесбиянок! А может, еще и педерастов?! Здесь такие штуки не пройдут!
Тут Пучунга, как разъяренный зверь в клетке, обернулась к нему и выпалила:
– А ну-ка пусть вытащит свой хер, у него там татуировка, ну-ка давай! Не прикидывайся христосиком, мы с Мечунгой сами видели, поганое твое ебало, как ты мальчиков дрючил, и сзаду и спереду! Все слышали – сзаду и спереду! Вытаскивай хер, а не то убью, как собаку!
Это точно. Товарищу активисту, в его молодые денечки, вытатуировали во всю длину его члена следующую надпись: Нанополе. Работа была филигранная, потому что целиком фразу можно было прочесть, только когда член вставал: На память о Константинополе. Помнится, вскоре сначала шутники из соседних домов, потом со всего квартала, а потом и со всего острова – ведь слухи у нас быстрее телеграфа – распевали:
На цветущем дереве девушка
имя вырезала ножом,
и влюбленное дерево девушку
цветами осыпало, точно дождем…
Собрание растянулось на несколько дней и потребовало напряжения от всех членов в прямом и переносном смысле. Для обследования детородного органа активиста была назначена комиссия из специалистов по татуировкам, древним рукописям и эрекциям. Пригласили даже советского ученого из КГБ, эксперта по вживлению микрофонов в члены. Когда указанный Пучунгой факт подтвердился, у бедняги отобрали партийный билет, а моих подруг назначили ответственными наблюдателями за состоянием здравоохранения среди членов женской федерации и КоЗеРогов – членов комитета защиты революции. Некоторые остряки называют нашу федерацию пиздократической, в связи с чем в подстрочном примечании для иностранного читателя хочу пояснить, что поскольку один из кубинских эвфемизмов этого неприличного слова – папайя, а папайя – это также еще и фрукт, то когда какую-нибудь женщину называют папайей, вовсе не хотят этим сказать, что она – поблядушка, а только, что она отличается приятной соразмерностью членов и природной храбростью, то есть, как у нас говорят, баба с яйцами. Происхождение этого эвфемизма связано с бесчисленными женскими страданиями – однажды я прочитала, что в колониальную эпоху негритянки, дабы избавиться от частых беременностей, вызванных их рабским положением, готовили отвар из сока и листьев папайи, которые обладают несомненными абортивными свойствами. Средство это было столь распространенным на плантациях, что постепенно и влагалище стали называть папайей. Пиздократическая кубинская федерация до сих пор сохраняет определенное абортивное свойство, с маниакальным упорством стараясь подвергнуть скоблежке всех кубинок, чтобы вытравить из них будущее. Но это уже совсем другая история. Мои подруги тем временем включились в процесс общественной деятельности в полном согласии с политическими федеративными требованиями. И хотя их продолжали называть по-прежнему, но теперь это звучало уважительно: товарищ Фала и товарищ Фана, так что Реглита уже больше не стыдилась своих тетушек. В результате вместо того, чтобы отпускать шуточки насчет триппера, стали толковать о том, что прозвища эти по своему звучанию вполне могут происходить откуда-нибудь из Рио-де-Жанейро или Лиссабона. Словом, жизнь опять потекла своим чередом, вернулась в нормальное русло, которое, увы, не для нас, потому что мы, в конечном счете, завзятые идеалистки, устремленные к невозможному, то есть попросту ненормальные.