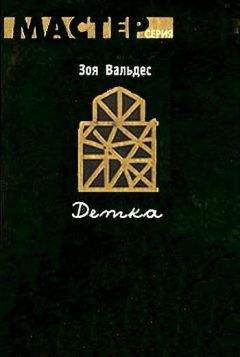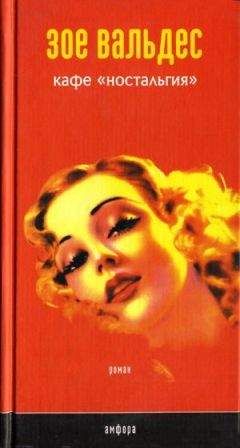Я не переставала думать об Уане. Не забывала о нем ни на секунду. После него, конечно, были и другие, много других, которым было до лампочки, что я беззубая, но я никогда не подавала кому-либо серьезных надежд. Я знала, что он где-то существует, а последнее, с чем расстается человек – это надежда еще раз увидеть любимых живыми. Даже Иво предлагал мне руку и сердце. Клялся всем святым, что будет хорошим супругом и замечательным отцом для Реглиты. Насчет него я даже строила кое-какие планы – не потому, что он мне нравился, нет, ничуточки, а потому, что с транспортом стало уже тяжело, а он берег свой шевроле» как зеницу ока – машина была как новенькая, как изумрудное колье Лиз Тейлор, и я подумала, что с помощью Иво перестану наконец опаздывать на работу. Он сделал мне предложение в автокинотеатре «Полуденная невеста», на последнем сеансе. Вскоре после этого кинотеатр снесли. Теперь это место заброшено и так заросло травой, что огромного экрана, на котором показывали столь памятные фильмы, почти не видно. Так вот, дамы и господа, как я только что говорила, он признался, что влюблен в меня по уши и готов припарковать меня – что я ему, машина в самом деле или у меня баранка между ног? – у дворца бракосочетаний или общественного буфета, это уж мне решать. В церковь идти он не хотел, потому что на это косо смотрели и вообще религиозность едва ли не преследовалась по закону. Он даже ухитрился было меня поцеловать, но тут же выпустил: сидевшая сзади Реглита постучала костяшками пальцев ему по затылку и спросила: «Кто там?» Меня разобрал такой смех – а надо сказать, описаться я могу из-за любой чепухи, – что я даже пустила струйку. Но, как бы там ни было, идея выйти за Иво и обзавестись автомобилем вдохновила меня. Потом я хорошенько призадумалась, и мне пришло в голову: а что если вернется он? Тогда мне не удастся доказать ему, что я терпела, как лошадь, как бычиха, что я сдержала свое слово и осталась ему верна. Не могла я вот так запросто пренебречь чувством собственного достоинства. И я отказала Иво. Не подумайте только, что я такая дуреха и раз-другой не спала с ним: тело есть тело, а мое было еще хоть куда. Ведь тело нуждается в любви и ласке. Так что для меня это было вроде физиологического отправления. К чему скрывать – я свое получила. По крайней мере, меню у меня было разнообразным – таким, что даже Шарль де Голль со своими сырами помер бы от зависти. Помнится, он с такой гордостью говорил, что во Франции существует триста шестьдесят пять сортов сыра – по одному на каждый день в году. В общем застаиваться я себе не давала и оттягивалась, как человек, который гадит после недельного запора. Представьте себе, какое это наслаждение!
Однако призрак Уана преследовал меня повсюду. Случалось, вися на задней подножке автобуса, я вдруг срывалась и падала, потому что мне казалось, будто я видела, как он сворачивает за угол. На меня напала страсть бродить по Гаване и выискивать его в толпе. Это был точно какой-то внезапный зуд: мне захотелось проникнуться городом за себя и за него, в память о нем. Время бежало быстро, многие здания успели обрушиться, другие претерпели значительные изменения в архитектуре, так как обитатели их по мере роста семьи вынуждены были пристраивать то тут, то там разные клетушки. Деревья постоянно подстригали, а под конец решили и вовсе срубить. Но люди все равно продолжали радоваться. По традиции. Нам нечего было есть, но у нас было чувство собственного достоинства, а главное, будущее. Хотя многие из нас (у кого подрастали дети) прекрасно знали, что будущее имеет свои пределы. Я продолжала бродить по Гаване и всегда останавливалась на Малеконе, лицом к моему родному синему морю. Лицом к бескрайнему простору, к индиговой толще воды – то соленой, то терпко-сладкой, то ярящейся, то ласковой, то такой доброй, то такой суровой. Как мать.
Я старалась хоть раз в неделю водить Марию Реглу в какой-нибудь из ресторанов, чтобы она познакомилась с ними, прежде чем те окончательно исчезнут. Ей больше всего нравился «Монсеньор», к тому же она пару раз видела там Снежка, который всегда исполнял для нас все ту же песню на английском: «Be careful, it's my heart…» И мы обе плакали, как дети. Что ж, она-то хоть действительно была ребенком.
«Монмартр» из «Монмартра» стал «Москвой». Вместо шампанского теперь подавали водку, вместо foie gras – солянку. По радио передавали уже не Эдит Пиаф, а Эдиту Пьеху – певичку-подражательницу, родом откуда-то из дружественных стран Востока, вместе с Карелом Готтом, Клари Катона и одной сумасшедшей итальянкой, которую всегда включали в обеденный перерыв, Лючией Альтиери – она была вся в блестках и слоях макияжа, и вообще непонятно откуда взялась на Кубе. Чтобы пообедать в ресторане, надо было стать передовиком производства и заказать столик за неделю. Но, хотя я уже была человеком заслуженным и могла позволить себе такое, я все же решила больше туда не возвращаться. Как-никак там я узнала сладость первого любовного поцелуя.
Но однажды вечером, дежуря в комитете, я почувствовала такую ностальгию по прошлому, такой отчаянный зуд, что наутро позвонила в ресторан, все уладила и пригласила компанию в полном составе: Мечу, Пучу и, само собой, Марию Реглу. Когда мы входили, нервы у всех были на пределе. В дверях мне пришлось предъявить свой билет национального профсоюза трудящихся, добрую сотню грамот передовика производства и медицинскую справку. Мы едва видели друг друга, и не потому, что в зале царила привычная полутьма, а потому, что горели всего две уцелевшие лампочки. Примерно через час к нам, едва волоча ноги, добрела товарищ официантка с огрызком карандаша за ухом, пахло от нее так, будто она только вышла из свинарника. Прежде чем зачитать меню, она тяжко вздохнула и наконец возгласила загробным голосом, доверительно обращаясь к нам сначала в единственном, потом во множественном числе:
– Эх, детонька, как мозоли-то сегодня разболелись, просто страх! Это к дождю, можете мне поверить, да еще к какому – так зарядит… Ладно, а пока не спешите пускать слюнки, чтобы, как говорится, слюной не захлебнуться. На сегодня у нас суп-солянка с луком, суп-солянка с пюре «вита нуова», суп-солянка с картофельным сыром, вода и маниоки. Да, еще хлеб и кофе. Но, сами знаете, часть отпущенных продуктов мы посылаем нашим чилийским братьям. А посему могу предложить чай… лечебный. Вообще-то он ничего, но лечебный.
В воздухе продолжал стоять смрад, словно возле клетки с носорогом. Официантка достала ветхую, склизкую тряпицу бурого цвета и сделала вид, что убирает с покрытого клеенкой стола объедки, но только еще больше размазала грязь.
Аппетит у нас разыгрался не на шутку, хотя от пищи и воротило. Тарелки заросли месячной коростой – моющих порошков тоже не хватало. Суп, впрочем, мы так и не доели – это вам не конгри из риса с фасолью. Наконец мне удалось сделать то, о чем я так страстно мечтала уже много лет. Сняв под столом туфли, я опустила босые ноги на пол. Но вместо мягкого ворсистого ковра почувствовала жесткий холодный цемент, шершавый, как собачий язык.
– А где тот красный ковер? – растерянно спросила я.
– Эх, душа моя, ты на какой планете живешь? Отстала от жизни, отстала. Ковер-то давно в мудацкое посольство отвезли, в эсэсэсэрошное. Говорят, будут из него шубы шить для покорителей Сибири. Но я, скажу тебе, только обрадовалась, – ковер-то уже был, что твоя половая тряпка, так и вонял ссаньем. Уборщица наша заболела, ну медкомиссия ее и уволила, а у новенькой – руки-крюки, ровно обезьяна. В нашей стране с рабством и капитализмом покончено. Мы – первая свободная территория Америки, мы – со-циа-ли-сты, поняла? Социалисты – вперед, а кому не нравится, пусть хлебало заткнет!
И официантка удалилась, вихляя задницей, будто танцевала конгу. Подружки мои пригорюнились, их крупные слезы капали в жирные лужицы на донцах тарелок. В горле у меня пересохло и словно ком подкатил. Мария Регла как ни в чем не бывало вылизывала тарелку.
– Эй, а вы чего не едите? Кому не нравится, давай мне, помираю с голоду.
Мы с подружками переглянулись и стали наблюдать, как официантка прячет бутылку растительного, масла под юбкой, засовывая ее за подвязку. Регла голодными глазами пожирала наши тарелки с недоеденной солянкой. Я подвинула ей свою. Она принялась хлебать с оглушительным хлюпом, как собака.
– Реглита, научись есть суп.
И мы трое снова переглянулись. Хочешь не хочешь, а на память неизбежно приходил тот день, когда мы познакомились, и я точно так же набросилась на суп, а подружки помирали со смеху. Реглита не обращала на нас никакого внимания. Мы расплатились и поскорее вышли. Я уже почти забыла о том, что такое деньги – крупные купюры нам приходилось видеть редко, да и закон стоимости, спроса и предложения повыветрился из мозгов.
Влажный ветерок дул от моря по улице. Гавана, как всегда, пахла гниющей зеленью, молодым кукурузным початком, газом и подштанниками нищего. Автобусы, проезжая, оставляли в воздухе облака горячего черного дыма. Из-под мышек текло, подошвы тоже были мокрые и скользкие. В свете редких фонарей лица и фигуры прохожих оставались едва различимы, но зато мы могли вволю наслаждаться зрелищем огромной круглой луны и созвездий, дружно высыпавших на небе, чтобы приветствовать зарю. По Рампе от Малекона в сторону «Коппелии» поднималась компания молодых людей с пустыми консервными банками, на которых они, как на барабанах, отбивали ритм и при этом беззаботно, со смешками напевали: