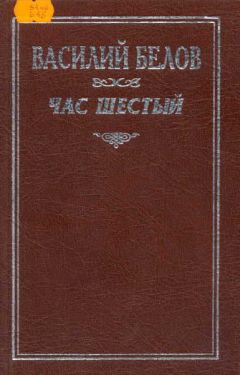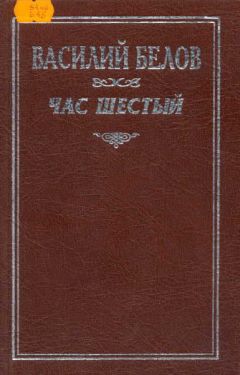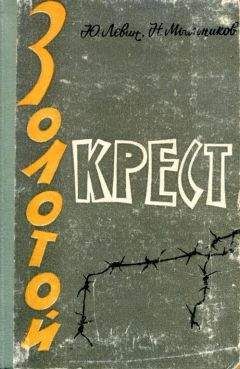— Не надо! Беги пока, а к вечеру чево-нибудь принесешь… Сережка припустил к мосту, не забыв прихватить уду и большого окуня. Перешел мост. Парень подрастерялся и не знал, с чего начинать. Хлеба нет в бане, зато картошка в яме еще есть. Яма на той стороне, где и сам Павел. Пускай он сам спустится, там не заперто! А Сережка ему котелок принесет. Он хоть картошки сварит. Голодный, видать. Мамка скоро придет. Кусков принесет…
Аксинья и в самом деле сидела с кривой Таней на банном пороге. Она ночевала сегодня в Залесной и теперь сидела с Таней на пороге. Они грелись на солнышке, рассказывали друг дружке все шибановские и ольховские новости.
— Ну-ко, Сережа, ты куды опеть навострился? — остановила Аксинья сына, — Ты ведь, поди, голодной, иди, молочка налью. Вон Людя Нечаева молочка принесла.
— Не! Я потом, с Олешкой, — отказался Серега. Он поставил уду к банной стене и побежал в гору, в деревню, на ходу соображая, что теперь делать.
Действительно, что было Сереге делать? Говорить ничего нельзя, а есть ему и самому хотелось. В голове крутились только одни слова Павла: «Чего-нибудь принесешь». Голодный он, совсем худой… Ежели Олешке сказать? Так ведь и Олешки-то нет в деревне, наверно, убежал в Ольховицу искать Василья. Или они оба тут, в Шибанихе? Ведь сегодня у краснофлотца сварьба… Пироги пекли и студень наварен… Нет, надо сперва искать котелок и спичек… Унести все к дегтярному. Никому нельзя рассказывать. А как унести котелок, ежели матка в бане? И куда окуня деть? Уха-то будет хорошая и с одного окуня. Павел уху сварит. Дак опять же котелок нужен… И спички. Дрова есть в сосняке. Эх, была не была, а котелок из бани уволоку, пока Веры нет. Увидят, дак скажу, что пошел по ягоды. Ежели ягод не насобираю, дак наломаю обабков. Обабков-то в лесу много, только все стали гнилые. И окуня с собой прихватить? «Рыбу-то надо варить без грибов», — сам себе заявил Серега, развернулся и твердой походкой направился обратно к бане.
Матери уже не было и кривой Тани тоже. Пока Серега ходил в гору в деревню, они тоже вместе с младшими ушли глядеть молодых. Чего они говорили про какой-то Палашкин сундук?..
Парень вытряс из котелка в каменку луковую кожуру. «Соли бы… — тоскливо подумал он. — Картошка без соли, разве дело? Нет, уходить надо, пока не поздно! Сейчас придет с покоса сестра Вера. Того и гляди Олешка прискачет либо матка придет… Тогда уж не убежишь к дегтярному-то. Остановят, начнут спрашивать…»
Он запихал в карманы штанов три кусочка, принесенные матерью, положил окуня на самом виду и бежать.
Отнюдь не надеялся Сережка Рогов на себя! Чувствовал, что ежели начнут мать с Верой спрашивать, что да как, да куда побежал, он не вытерпит и разревится. Скорее на мост да на тот берег. В лес да по дорожке к дегтярному…
Высокие сосны тревожно шумели, канючила в кустах какая-то птица. Дятел тюкал. Большой, с кепку, масленок встретился на дорожке, но оказался гнилой. Сережка пнул его ногой, даже не стал особо разглядывать. Ясно и так, что гнилой. Зато маленькие были ядреные, скользкие. Они росли прямо у завода, где гонили когда-то деготь. Этих набрал Серега полкотелка и присел на обгорелую чурку.
«Буду до вечера тут сидеть!» — решил парень, но послышался легкий посвист. Павел ходил где-то близко. Он и вышел к дегтярному из частого ельника. Кинул на землю кепку с маслятами и крепко, за плечи, обнял Сережку. От голода и волнения Серега разрыдался.
— Ну, не реви, не реви! Ты у нас мужик, не реви. Вон как вырос! — успокаивал Павел, босой, обросший.
— В-вот, принес котелок да еще три куска мамкиных… — заикаясь, говорил Серега.
— Что, и она по миру пошла?
Сережка швыркал носом, глотая слезы. Павел опять начал его успокаивать. Затем и сам прослезился, когда узнал про второго своего сынка, про брата-краснофлотца и про Евграфа Миронова, которого поставили вчера в колхозные преседатели.
— Ну, а на мельнице кто? Заперта ли она на замок?
— Не заперта! Ключ-то у дедка Клюшина, а двери все равно открытые.
— Ладно… Давай раскладывать теплинку, станем обабки жарить. Либо беги пока в яму за картошкой, я той порой дров наломаю. На вот мешок тебе. Ежели увидишь кого, сразу в кусты.
Пока парень бегал на яму, костер у Павла вошел в силу. Около огня да под солнышком стало жарко. Котелок без воды совсем не потребовался, пекли маслят на огне. Когда костер прогорел, картошку зарыли в горячей золе. Она пеклась долго, Павел пробовал ее то и дело. После жареных обабков и печеной картошки Павел сказал, усмехаясь:
— Ну, Сергий Иванович, спасибо тебе! Накормил как на сварьбе, иди теперече рыбу удить. Али и сам на сварьбу пойдешь? Только про меня ни гу-гу! Сбежал ведь я с высылки-то, видишь сам. Нельзя мне в деревню показываться… Не говори никому, иначе мне сразу каюк… Беги, беги… Да матку-то слушайся. — Павел снова крепко обнял подростка. — Школу не вздумай бросать. Сколько можешь, учись… Не давай и Олешке пропускать уроки.
— А ты куды?
— Иди, иди, про меня не думай. Котелок-то оставь… Я как-нибудь найду слой!
И Серега пошел от дегтярного, не оглядываясь… Только тревожная дробь дятла прошла по гулкому сосняку да ястреб печально кричал в лесу. Запах костра развеяло ветром.
В бане по-прежнему никого. Он сел на пороге, глядел на речную осоку и долго по-взрослому думал обо всем, что случилось. Только сейчас дошло до подростка, что Павел был босой, без сапог.
Тонька-пигалица в голубом праздничном платье прибежала звать Серегу в гости на свадьбу:
— Сережа, ты чево сидишь-то? Иди к нам-то, иди, все уж давно у нас. И Олешка, и Вера. Иди, не тяни времё-то!
И Тоня стремительно исчезла. От нее остался лишь легкий запах земляничного мыла.
Но Серега, несмотря на голод, стеснялся идти на краснофлотскую свадьбу. Его чуть не силой затащили в дом Тоньки, когда он случайно появился на улице. Это было уже вечером. Гуря пригнал стадо, и в Шибанихе как раз возник жуткий переполох: клюшинская корова пришла из поскотины хромая, и весь хребет у нее был в крови. Густая кровь засохла на хребте и с боков. Таисья ревела на всю деревню. Гуря взахлеб говорил каждому встречному: «Он не наш, не наш медведко-то, он из Залесной пришел. Нашего медведко смирёной, я ево знаю. Это залесенской! Как он выбежит, как скочит на ее, она так и присела, корова-то. Он и давай ее грызть. Вся скотина ревит, медвидь ревит, я пуще всех! Так и ревим, так и ревим!.. Я батогом кинул в звиря-то, он и побежал в лес. Из-под него корова еле выбралась. Не наш, не наш этот медведко! Наш бы не стал корову грызть…»
Но Гурю уже никто не слушал. Бабы шумно толклись около клюшинского двора. Кричали, махали руками. И хотя корова стояла на своих ногах, Новожил подал совет прирезать.
— Облавой надо идти в поскотину! — утверждал Жучок, а Савватей Климов все спрашивал Володю Зырина:
— Ружье-то с пулей у кого ноне? Не в канторе?
— Откуды мне знать, где ружье?
— Облаву, облаву надо!
— Ежели звирь крови попробовал, его уж из поскотины облавой-то и не выгонишь, — доказывал Киндя Судейкин. — Пустое дело!
— А чего он колхозных не трогает?
— Дойдет дело и до колхозных!
… Дедко Клюшин обмывал коровьи раны холодной водой.
Петровский пост не мог утихомирить шибановцев, деревня как будто ждала каких-то новых, еще более занятных событий. Не столько выборы нового председателя и приезд Микуленка, сколько предстоящая свадьба взбудоражила оба конца. Старики и старухи вроде Новожилихи не одобряли свадьбу во время поста, в разгар сенокоса, но Васька Пачин был непреклонен. Правда, краснофлотец не хотел широкого шума. Он пригласил на пиво одну родню, свою и Тонькину. Два «холостяка», названные так женихом (то бишь Серега с Алешкой), сидели сперва за печью в кути и уплетали пшеничные пироги, испеченные с вяленым мясом и творогом. У обоих даже за ушами попискивало. Попробовали и сусла, но оно им не задалось. Одним словом, оба неожиданно оказались сытыми, а к вечеру их, как настоящих мужиков, посадили за свадебный стол.
Под святыми сидели жених с невестой. На Тонюшке в тон краснофлотской форме небесного цвета сатиновое платье, на плечи накинута зеленого цвета атласовка.
По обе стороны молодых сидела родня: Тонькина мать и два брата с одной золовкой, Вера Ивановна с Аксиньей, тетка жениха Марья Миронова и подруга Тони задушевная, Палашка, в своей кашемировке. Юбка и кофта Палашкины тоже были праздничные. «Холостяки», Серега с Алешкой, и были усажены в этом ряду, а на скамье за приставным столом разместилась родня из Залесной, Славушко со своей женой из Ольховицы. Шмыгала носом и кривая старуха Таня, без коей не обходилась ни одна свадьба. Там же сидел и гармонист Володя Зырин. Гармонь пока была спрятана на полати.
Пахло нафталином и городскими папиросами, на трех столах были нарезаны всякие пироги, поставлены ладки со студнем и жареным петухом, на каждом столе стояло по одной белоголовой «рыковке», пустые пока рюмки и стаканы. Но вот младший Тонюшкин брат Евстафий, нарочно сидевший с краю, принес из сеней ендову с пивом.