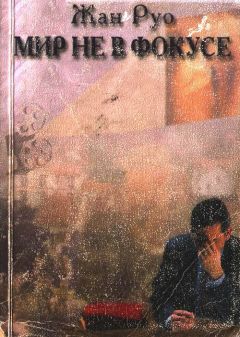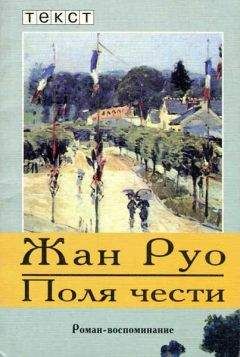Рассказывают о благородных, достойных восхищения проявлениях дружбы, о клятвах по гроб жизни: потому что это был он, потому что это был я, — туманные формулировки, но, возможно, они и впрямь являются условием «sine qua non»; однако нет ничего общего между этими соображениями и тем, чтобы пересечь весь город, дважды пересаживаясь на другой автобус. Его версия не выдерживала критики. Ведь не потому он так утруждал себя, что семь лет назад пригласил меня в свой сад на берегу моря, выставив на посмешище с ракеткой в руке. Со временем я разобрался в их игре. Две благонамеренных семьи затеяли состязаться на моем хребте. «У этого бедняжки недавно умер папа, какая жалость — маленький новоиспеченный сиротка, это испытание посылает нам Господь, чтобы проверить милосердные ли мы христиане. Дети мои, вам надо проявить отвагу и самоотверженность; быть может, малыш ест руками, как крестьяне, но наш долг пригласить его». Старшую сестру наставляют: «Ты будешь с ним любезной, ты не будешь смеяться над его очками, ты будешь собирать за ним шарики, ты намажешь ему бутерброд», — и, разумеется, для круглого счета еще наставлений шесть в том же роде. А сейчас представьте себя на месте другой семьи, не менее обеспеченной и благонамеренной, хотя и обеспокоенной тем, что их втянули в это дельце: «Ну что ж, раз так, то мы пригласим его подряд на два четверга». Тогда и первое семейство, небось, подняло ставки: «А мы — на три», — но сестрица с братцем, скорее всего, взбунтовались. Сестра: «Вот еще! Убивать все свои выходные, бегая за шариками этого очкарика»… Брат: «Лучше об стену стучать мячом, от нее он, по крайней мере, отскакивает». — «Разиня — полбеды, — не отстает сестра, — а помнишь, братец, бутерброд?» И опять хохочут до упаду.
Вот так, по косточкам, и разбирали они тогда, наверное, тот уморительный день, а теперь брат, поступивший на столь трудоемкий медицинский факультет, жалуется, какой у него скучный новый круг общения (надо было литературу выбирать), в результате едет через весь город — и даже более того (филфак засунули на самую окраину, в здание на пустыре, неподалеку от ипподрома, а университетский городок еще дальше) — за новостями, побасенки пришел послушать к шуту гороховому. От своего круга все равно не убежишь, так что заявился он, верно, этаким лаборантом, учеником Пастера, которому неймется понаблюдать за дорогим его сердцу культурологическим брожением в замкнутом пространстве: к вашему сведению, закуток мой два на четыре метра, в углу кровать, рядом письменный стол со столешницей из прессованной пластмассы цвета слоновой кости, стул, обтянутый кожзаменителем, набитым водорослями (но каморка так тесна, что работать за столом можно, не вставая с кровати, тем более когда любишь сидеть низко и писать, уткнувшись носом в страницу, если зрение, к примеру, неважное), а при входе — за невысокой перегородкой, отделанной под красное дерево, — умывальник и биде (голубая плитка Бютогаза стоит на полочке под зеркалом, но это уже вещи жильца так же, как и маленькая эмалированная кастрюлька, кремовая снаружи, белая внутри, в ней я обычно кипячу воду для чая в пакетиках).
Знаешь, сестренка, едва я переступил порог его комнаты, он так посмотрел на меня, будто я был посланником от КГБ или от Содружества выпускников Сен-Косма. Кажется, он что-то скрывает. По-моему, очень может быть; видела бы ты, с какой поспешностью, когда я чуть было не уселся на его постель, он бросился расчищать мне место и, первым делом, прибрал со стола листочки, сунул их в оранжевую папку, я даже не успел прочесть, что на ней надписано, какое-то двойное имя, что-то вроде Этьена-Марселя (зачем ему этот купеческий старшина?), а еще я заметил там стилизованный рисунок — скорее, беглый набросок — парочки, изображенной со спины; прибрал он все это в ранец, который носил в коллеже, да я рассказывал тебе о нем. Такой портфелище с клапанами из толстой кожи мышиного цвета, который, как он утверждает, принадлежал еще его отцу; отец представлял какую-то торговую фирму, и для его папок, досье и всяких каталогов ему нужна была объемистая и прочная сумка; а когда он умер, сын выклянчил ее себе под предлогом, что туда помещаются все нужные ему для занятий вещи. Ты, наверное, помнишь, стоило забыть учебник или тетрадку, как тут же на тебя обрушивались наказания, и ученики должны были позаботиться обо всем с утра, внимательно просмотреть расписание уроков на листочке, который часто прикрепляли скотчем или кнопками с внутренней стороны крышек парт, и все необходимое захватить с собой, потому что днем не пускали в комнату, где стояли шкафчики с личными вещами. И вот он, чтобы избежать неприятностей — представляешь, если ты что-нибудь забыл, тебя заставляли сидеть весь урок со сложенными на парте руками и даже взглянуть в книжку соседа не разрешали (помню, с ним приключилась еще более жестокая история, хотя у него был сборник басен Лафонтена, он сунул его в свой ранец, ведь нас предупредили, что мы будем заниматься логическим анализом стихов; но, видишь ли, вместо того, чтобы приняться за басни, этот самый — как его? — Праслен, или Фраслен, заставил нас анализировать абзац из предисловия — и в этом наш дружище углядел, возможно, и не без основания целый заговор против себя, потому что у него было другое, чем у всех остальных, издание. И тогда этот тип — Праслен или Фраслен, — указав нам страницу, отправил его за списком книг, которые нужно было купить в начале учебного года, вместо того, чтобы просто дать ему свой экземпляр; так наш бедняга схлопотал себе «кол», а все потому, что его родители сочли глупым покупать второй экземпляр басен, когда их уже прошла его старшая сестра, решив, конечно, что не найдется шутников подправлять их, басни то есть, от издания к изданию), — так как что-нибудь он нет-нет да и забывал, по рассеянности или голова не о том болела, а наказаний и отсидок в классе после уроков сверх головы нахлебался, то, не долго думая, он вывалил все содержимое своего шкафчика в этот самый доставшийся ему по наследству (тяжелое наследство-то) портфель; сам он был тогда невелик ростом, и вещи ему приходилось носить на согнутых руках, а иначе они волочились по полу (не руки, руки у него как раз нормальные, а шмотки), из-за этого и ученики, кто покрупней, и учителя измывались над ним, вполне заслуженно сравнивая его с улиткой или с черепахой и спрашивая, почему он не таскает на себе кровать или шкафчик, коли за этим дело стало. Он же, сгибаясь под своим непосильным грузом, со слезами на глазах (ему ничего нельзя было сказать: по любому поводу ревел, а что хуже всего — был страшно мнителен), отвечал как мог, ну хотя бы, что благодаря своему методу не только сам не получил больше ни одного взыскания, но и другие бывали часто радешеньки найти в его загашнике что-нибудь забытое — иногда просто пенал с ручками, — поэтому прежде, чем критиковать, лучше хорошенько подумать… и всякая прочая аргументация. Но заявиться со своим непомерным тюком в гости… я так и вижу его около столика для пинг-понга… помнишь, сестренка, как мы смеялись? Впрочем, ты его тогда привела в священный трепет. После стольких лет он меня о тебе расспрашивал — что ты, где ты? — я даже немного опешил, я ответил — представь себя на моем месте, — что ничего не знаю, — как это, ничего не знаю? — тогда я сказал: «Быть может, на Небе». И тут он на меня пристально посмотрел, и на глазах его показались слезы. В этом он нисколько не изменился, все та же плакучая ива, а ведь ему теперь, наверно, восемнадцать, мы ведь — ровесники. В довершение всего пришлось его утешать. Он быстренько поутих и предложил мне чаю, извиняясь, что ничем больше не может угостить. Я отказался под предлогом, что и без того помешал ему работать, но он стал уверять меня, будто и не работал, хотя, очевидно, это не так. Он ходил на все лекции, но никогда не конспектировал, и заниматься ему было не по чему, да он и не занимался. Вероятно, приобрел эту привычку, когда перестал носить очки. (Боже ты мой, — помнишь? — натыкаясь на помойку, мы каждый раз говорили: «Смотри-ка, футляр для его очков»). Поскольку он не мог разобрать, что написано на доске, даже если сидел в первом ряду, то решил: пусть занятия проходят без него — при нем, но без него. Как он при таких обстоятельствах умудрился сдать математику, физику и химию, ведь под конец урока вся доска была исписана доказательствами и формулами, которые нужно было запомнить и выучить? Вот загадка! Впрочем, я не очень верю в его пресловутую близорукость. Он-то утверждает, что ему везло, но раз на раз не приходится, вот и свернул на филфак. Ну, близорукий он там или нет, я ему все-таки сказал, что, по-моему, он вовсю занимался, когда я вошел. Нет-нет, — ни в какую не отступает, хоть ты что. А разве он сейчас не писал? Да, конечно, но это другое. Я тогда вспомнил, что в Сен-Косме за ним водилась репутация рифмоплета, он мог накропать сто строк александрийским стихом, потешаясь над спиной смотрителя, или разразиться сонетом о дожде. После злоключения, о котором я тебе рассказывал, он сочинил басню в духе Лафонтена, мораль которой звучала приблизительно так: ах, мораль? морали больше нет. Мне это припомнилось, потому что Праслен, или Фраслен, перехватил листок и прочитал стихотворение в классе — все, кроме последней строчки, вместо которой написал на доске: «Мораль: логически проанализировать Первую книгу басен Лафонтена».