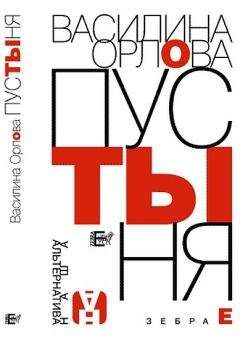Обманщики. Как доказал случай с «аськой», можно ни словом не грешить против истины — и обмануть. А многие лжецы вообще несут столько захватанной дряни, тлетворных увещеваний и утомительных благоглупостей, поневоле шарахаешься.
Но, чем сильнее порыв, тем больнее врезаешься — коленом, бедром, плечом. В стекло или фанеру. Нет, мне не кажется, что сие заграждение из бетона. Оно даже не производит впечатления стены или забора. Краткая чепуха, неясная заграда ни с того ни с сего, в чистом поле. Так бывает в русских лесах. Идёшь, и видишь в глуши какую-нибудь керамическую посудину — обычную раковину, или даже ванную, чугунную, с эмалированными боками.
Или вдруг — дверь, ни к селу ни к городу, сама по себе, никуда не ведёт и ниоткуда не выпускает. Фрагмент с утраченным — или просто не заданным — смыслом. Странно и символично. На грани прозрения.
Дверь.
Ялтинская ночь чарует отсутствием звуков. Само море недошелестелось сюда, в отдалённый край, в моё отстранение, уединение, сосредоточение. Только сухой стрёкот клавиш, словно сверчков, озвучивает комнату. Я сконцентрирована, упёрта в экран. Напоминаю робота.
Когда выдохнулся весь воздух, остается добирать его маленькими глотками, порциями — так можно ещё долго дышать. Можно открыть в себе второе дыхание, пока не закончится первое. На сей раз я даже не хочу думать о бывшем муже, я хочу написать письмо.
Ведь ты уже есть, несомненно, где-то. И сейчас, там, в Москве, 22:18. Где вы были в двадцать два часа восемнадцать минут энного ноября две тысячи четвертого года? Что вы делали? С кем вы спали? Что ели? Что, если…
Я предпринимала попытки не зацикливаться на одном и том же. Я стремилась порвать пелену, которая содержала меня в себе, головастика в икринке.
Я лежала на кровати, накрывшись простынёй. Спутник всего дня лежал здесь же, в той же комнате, в углу, на матрасе.
Он выключил свет, и не указал, куда я должна ложиться. Я присела на матрас на полу. Он, видно, уловил движение, при последней вспышке гаснущей лампы, спросил с некоторым испугом: «Где ты?»
Где я.
Подала голос. Он велел ложиться на кровати. Я пробовала сопротивляться, приводя резон добропорядочного гостя, о том, что не могу позволить себе занять более просторную хозяйскую кровать, хватит маленькой подстилочки на полу. Довод был отвергнут. Истинная причина моего желания была та, что на матрас — я видела — было постелено свежее, а кровать покрывала простынь, на которой уже спали.
Впрочем, переместилась. Здесь было слишком просторно для меня одной. Я была недовольна, но настаивать не решалась.
Мы лежали по двум углам, не спали, не разговаривали. Было трудно шевелиться, за окном, как назло, совершенно тихо. Я не могла поверить, что он не подойдет ко мне. Я — просто — не могла — поверить. Поверить в то, что вот сейчас с шуршанием хрустких свежих простыней он встанет и переместится на лежбище, которое занимаю я, тоже было невозможно. Проваливаясь в сон и выныривая на поверхность реальности, я допустила абсурдную мысль, что лучше сама приду — ведь простыни свежие там, а не здесь.
Понимая, что дальше вот так, без движения, невозможно, я стала имитировать спокойное дыхание якобы спящего человека. Подействовало. Прежде всего, на меня. Я вроде как и впрямь засыпала. Сон в такой беспокойной обстановке всё равно как оргазм с незнакомым. Вот-вот, ещё чуть-чуть, ещё немножко… А искомое состояние отступает и отступает, как волна от крутого берега.
Так я думала. У меня ни разу в жизни не было близости с незнакомцем. А этого дважды видела, нынешний раз — третий. Правда, провели вместе пять часов подряд, и я стеснялась при нём есть и в туалет. Признаки зарождающейся влюбленности просто ужасны. Если нравится мужчина, не могу пойти при нём в туалет. И есть почти не могу. Стесняюсь.
Ровное дыхание сбивалось, и это слышно даже мне самой. Я ощущала нарастающее возбуждение по спирали от низа живота. В нём дело. Против воли в голове стало прокручиваться, как он берет меня в объятия, баюкает, гладит волосы, как электризуется пушок моих тонких нынче загорелых рук. Постепенно из нежности проклевывается страсть.
И так далее.
В желудке давно уже было пусто. Справляясь с нарастающим любовным волнением, я молилась про себя, чтобы он поскорее заснул, и напрягала живот, потому что могло заурчать. Я гадала, спит или нет. Он, конечно, не спал. Я чувствовала, как одеревенение захватывает плечи — завтра встану сутулей, чем сегодня.
Гадала, что же мешает вполне отдаться восходящему чувству. Раз уж я тут ночую. Сама согласилась. Свободна? Даже с избытком. Молода, здорова? Вроде того. Хочу этого? О.
Разом с возбуждением жилкой билось и тянуло своё надоедливое сопрано отвращение. К себе — такие мысли. К нему — он же мужчина. Мужчины непривлекательны, привлекательны только женщины.
Но ведь всё равно тут ночуешь, говорило мне что-то. Все равно, утверждало оно, никто никогда не поверит, будто ничего не было. Моя собственная мама не поверит, когда утром вернусь, пряча масляные блудливые глаза.
Не было.
«Охренеть,» — написала я в «живом журнале». Кстати, интересно было опубликовать рассказ о подобном в открытом доступе на персональном форуме в интернете. Я отчаивалась от собственной храбрости, и с замиранием сердца ждала, что воспоследует. Ничто не воспоследовало. Прилетел необязательный комментарий, мир не перевернулся. Как ты говоришь, я и мир способны вынести ещё большую меру открытости.
А я всегда утверждала, что мера открытости и есть мера защищенности.
Но как мало мне помогали собственные понимания!
Почему монахи всего мира исповедуют целомудрие? Кроме, может быть, монахов некоторых диковинных направлений диковинных религий… Вероятно, ради сосредоточения энергий? Я тут подумала, поняла вот только сейчас, прямо сейчас поняла, что моя история, вероятно, уникальна: двадцать первый век, двадцать пять лет — один мужчина, и тот муж. Да и с тем рассталась. Ну надо же, не смешно ли. Разве вам не интересно почитать, что было дальше?
А впрочем, нет, кажется, не уникальна история.
Официантка Лена всегда ходила в сиреневом, слегка подвыцветшем свитере. Волосы красила в черный. Хотя, для большинства мужчин, как известно, подобные вещи остаются тайной — ну, что волосы красят. Они готовы за чистую монету принять пряди воронова крыла. Но мы-то, женщины, видим, что монета фальшивая…
Видела и я, и другие сотрудницы — ближайшая риэлтерская контора почти в полном составе обедает здесь. Кроме тех, кто экономит, и ходит на другую сторону улицы — там сохранившаяся невесть как с общепитовских времен столовая, с супами и кашами, напоминающими ту омерзительную пищу, которые мы все хорошо запомнили по детскому саду, а потом — по общеобразовательной школе.
Лера и Тоня, мои молоденькие коллеги, красивы. Лера — украинка, одна из классических украинок, которые сейчас остались разве что в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Что не значит, будто она русоволосая и сероглазая (как многие сейчас почему-то думают об украинцах). Напротив, у Леры густые и черные, как смоль, брови, смородины-глазищи, смуглый, чуть не бордовый, румянец, яркие, полные, словно налитая черешня, губы, и темные, самой природой кинутые в синий отлив, густые, прочные, толстые волосы.
А Тоня Лепешкина — типичная москвичка. Не слишком взрачная, но есть в ней своё обаяние. Мягкие, словно тополиный пух, волосы выкрашены в рыжий, серые, ближе к голубизне, глазки, простое, открытое, и вместе с тем тонкое личико. Столичная штучка, которую могут оценить только в столице.
Лера красива по-другому: с вызовом, богато. Такую нельзя не заметить, даже если поместить среди женщин одной масти: даже меж них, темноволосых и яркоглазых, будет она выделяться непрошенным сапфиром среди синего стекла.
На их фоне Лена за стойкой окончательно чернеет своей придуманной чернотой. Впрочем, я ни разу, с тех пор, как обедаю здесь, не ощутила от Лены какого бы то ни было недовольства своим скромным, казалось бы, положением кассирши, официантки.
Лера слегка пританцовывает, дожидаясь очереди, когда можно сделать заказ, под раскатистые буги-вуги из динамиков радио, настроенного на очередную народную волну. За что не люблю «Семёрочку» — громко очень. И накурено иногда, особенно когда входная дверь по случаю непогоды бывает плотно прикрыта. Сейчас как раз такой случай: на улице время черемуховых холодов. И что с ними делать? Вырубить, говорит Лера, всю черемуху нафиг.
Ничего, май собрался с силами и в последний разок ещё прихватывает морозцем, чтобы не ухнуть так уж сразу в жару и пот. Самое большее через полторы недели будем сидеть здесь же, обмахиваясь меню и вяло жуя веточку петрушки, снятую с салата: аппетит в жару пропадает…