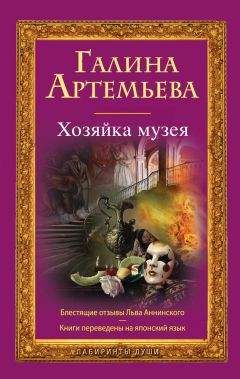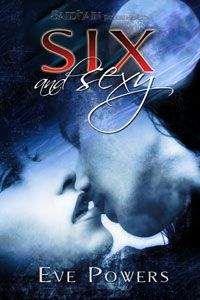Пойми, я именно от тебя хочу ребенка. Маленького тебя. Чтобы он во всем был ты. Так же глаза щурил на солнце, так же в воду нырял с разбега, так же ногти смешно стриг коротко-прекоротко, так же волосы со лба откидывал. Ты бы его всему научил, что сам умеешь. Он был бы твой самый верный друг…
И вот я не понимаю, чего ты боишься? Жизни? Самой жизни?
Ты приходишь ко мне, ты хочешь нашей близости, ты любишь, как я готовлю, тебе со мной не скучно, тебе нравится, как я выгляжу, как одеваюсь.
Тогда почему же? Почему мы не можем?
Если ты не хочешь навсегда со мной, значит, просто осознанно меня используешь. Как машину напрокат берут. На время. Для собственного удобства на данном отрезке времени и пути. Но ведь машину в случае чего просто так не бросишь, когда надоест и новую заимеешь: найдут брошенную, накажут, оштрафуют.
А со мной выходит – можно… У меня чувство, что ты в любой момент, в любой удобный для тебя момент можешь просто слинять. И все эти мои годы с тобой канут в пропасть.
И что мне тогда будет вспоминаться?
Мои мольбы о ребенке, как о пощаде приговоренного молят? Мое сидение у телефона в ожидании звонка? Ощущение пустоты? Или, как в Питере, ты к друзьям укатил, хотя мы собирались вместе время проводить, и меня одну на целую неделю оставил? Одну в чужом городе, о котором я год мечтала. Чтобы с тобой туда вместе поехать. А осталась почему-то одна, как никогда, как нигде. Мы только в поезде на обратном пути и встретились, и ты даже не извинился.
«Ведь мы с тобой два холостяка, да? Можем уйти в загул?»
Все правильно. Все удобно. Ты – холостяк. Сейчас. Подожди. Погуляй-погуляй. Через десять лет пооблезешь, пылью покроешься. И станешь уже не холостяк – бобыль. И нужен будешь какой-нибудь молоденькой курочке не ради своих вставных перламутровых зубов, если осилишь когда-нибудь себе такие соорудить, не ради красивых прыжков в воду, а из-за мифического ореола собственной ценности, который ты так здорово, талантливо, незаметненько умеешь вокруг себя создать.
Только и у тебя времени-то особо нет.
И через десяток годков никто долго обманываться твоими прелестями не станет. И тогда начнешь ты – ты! – просить:
– Люби меня! Будь со мной! Пожалуйста!
Вот тогда-то настанет момент. Тогда-то тебя твое давнее предательство и настигнет. Вспомнишь тогда меня. Как ты годами мою живую душу в тисках держал. Как юлил и трусил. Как не давал зародиться ребенку, о котором я так мечтала.
Видно, только тогда и поймешь.
Валяй. Вали отсюда. Живи эти годы без меня. И когда жизнь напинает как следует – мир ведь «слишком жесток», сам знаешь, не возвращайся.
И все я понимаю. И никто не виноват. Я сама себе столько всего напридумывала…
Ты, какого я люблю, целиком придуманный.
Мужественный, благородный, сильный, веселый…
Но если бы ты вправду таким был, то разве я чувствовала бы постоянную боль и унижение?
Хватит мне ощущать себя никчемной, брошенной, одинокой! И ты – не единственный в мире мужчина, от которого могут родиться дети.
От тебя как раз вряд ли смогут. Раз за пять наших лет не родились.
И кто от тебя родится, если что?
Такой же трус и поганец. Пользователь…
Ты думаешь, ты чего-то добьешься в жизни, если всегда будешь остерегаться и просчитывать наперед?
Нет! Судьба за тебя уже давно все просчитала. Ты мне душу помотал, а теперь она тебе помотает!..»
Дочка расплакалась.
Сердце Елены Михайловны не выдержало. Не смогла она молча пройти к себе, рванулась в комнату своей девочки:
– Боже мой, Риточка, что с тобой? Что ты там бормочешь в темноте?
– Мама, я же просила тебя! Без стука ко мне не… – Рита старалась перевести дыхание.
– Ну, извини, прости. Я просто подумала: без света, плачешь…
– Да не плачу я, мама, оставь! Пробы у меня завтра очередные. Роль идиотская. Все равно ничего не выйдет, все зря. Иди спать, не волнуйся.
– Ну и брось ты ее, раз идиотская. Брось ее, деточка. Не стоит она того!
Сколько боли и силы вложила мать в эти слова!
– Да я уж и сама думаю… Не волнуйся, мамочка. Все будет хорошо. Увидишь. У меня все в порядке.
Вот только этим желанием – чтобы все у дочки пошло хорошо и именно так, как она о том мечтает, была полна душа Елены Михайловны.
Пусть у меня все кончено.
Пусть я есть и буду одна. Я привыкла и приняла.
Но Риточка! Пусть Риточке улыбнется счастье…
Сегодня с утра в счастье особенно верилось.
Вот и Риточка позвонила. И голосок ясный, веселый:
– Ты как в своем музее, мамуль? Хорошо там?
– Не то слово, детка! Замечательно! Тут просто диво. Неожиданное и чудесное. При встрече расскажу.
– А меня на роль утвердили. В длиннющем сериале. Буду богатая, – радостно поделилась дочка.
– Ох как хорошо!
– И еще… Я теперь одна. Рассталась насовсем…
– С этим поздравлять? – осторожно спросила Елена Михайловна.
– Да! – прозвучал уверенный ответ. – Сегодня все мои новости хорошие, мам.
– Тогда – в новую жизнь! Вперед! Все будет замечательно. С сегодняшнего дня!
– Я знаю, мамочка. Почему – сама не отвечу. Но знаю, что все-все к лучшему.
Елена Михайловна и принялась за работу с удивительным ощущением грядущего счастья.
День не обманул. Все было еще восхитительнее, нежнее и неожиданнее, чем в утро ее приезда. И воздух весны, и речная рябь, и солнечная дневная тишина, и дивные шедевры из музейного хранилища. Понятно было, что счастье не дарится на веки вечные. Что его надо впитать каждой клеткой на память оставшейся земной жизни – и дальше… дальше… Сохранить в тайне. Тогда чудо достигнет мистической концентрации, и мысль о нем станет опорой в периоды внутреннего опустошения.
Такие тонкости по отношению к исключительным моментам бытия копились из поколения в поколение и унаследовались Еленой Михайловной как родовое благословение.
Она не растратила попусту ни лучика, ни одной счастливой минуты. Смотрела, слушала, вдыхала. Сосредоточенно работала, не допуская, как в первый день, проявлений восторга.
Радовало ее и то, как умно заведено все в этом заштатном удивительном музее. Полноценные каталоги. Опись единиц хранения. Причем опись подробная, вплоть до того, когда и у кого куплено произведение, при каких обстоятельствах. В большинстве случаев прилагалась расписка художника или предыдущего владельца в получении денег, что само по себе могло считаться достойным экспонатом. Еще бы – собственноручный автограф Репина или Серова!
– Это все папа завел. Потомки оценят, говорил. Вот видите… Это вряд ли… Тут ошибся, – комментировала Афанасия, показывая все новые и новые музейные достопримечательности.
– Система учета у вас замечательная! – восхищалась Елена Михайловна, – Как в лучших музеях мира.
– Да. Это так. Все в компьютер занесли. Каждый экспонат сфотографировали, описали подробно. Так что не только теперь на бумаге. В электронном виде – тоже. Только если исчезнут экспонаты, электронный вид – что? Тень… Слезное воспоминание об утраченных временах.
– Верно, – вздохнула Елена. – Но я же здесь не просто ради того, чтоб полюбоваться. Хотя оно того стоило. Но я затем, чтобы меры принять. И мы их примем, уверяю вас. Такие сокровища без сигнализации – это же просто ужас… И слов других нет. В любой момент залезут… Что говорить… Даже храмовые иконы похищают! Но то, что у вас все так грамотно и современно поставлено, – приятная неожиданность.
– А это все Доменик. Специалист именно в этой области. Французский у нас диплом.
– Во Франции учился? – удивилась Елена. – Как же Вам удалось?
– И не только… учился, – улыбнулась Афанасия, – но там и родился. Мама моя все мечтала, чтобы я уехала отсюда насовсем. Любила тут все и – страх ее одолевал. Говорила, что ей так уж на роду написано: хранить и беречь, как мужем завещано. А я чтоб спасалась. Любой ценой. Она ж в таких местах побывала… Ей виднее было, чем нам. И все твердила, что зло – самый тяжелый груз. И что корабль, груженный злом, непременно потонет. Особенно после смерти папы укрепилась в своем предчувствии. А я-то все списывала на тяжесть ее юных впечатлений. Не верилось мне в тонущий корабль… Но поехала по приглашению навестить папино прошлое… Там и встретила… человека. Из родственников папиной первой жены. Тоже потомок голубых наших русских кровей. И там я скоропалительно вышла замуж. Главный мотив – чтоб маме угодить.
Афанасия рассмеялась задорно, по-девичьи.
Лене показалось, что увидела она в облике Афанасии другую женщину, сильную и насмешливую, поющую в глаза плюгавому активисту дерзкую частушку…
– Так что Доменик у нас – француз. Хоть и чисто русских кровей.