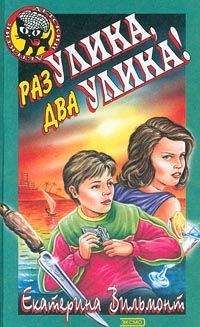— За кордон.
— Нельзя же провести всю жизнь в захолустье.
— Не знаю, не приходило в голову.
— И в сердце.
— А как же они?
— Кто это?
— Все, кто здесь живет. Как же они без меня?
— Никому ни до кого нет никакого дела.
— Ошибаешься. Мы все тут женаты на одной судьбе. Мы участвуем в одном промискуитете. То есть, повязаны одной кровью.
Ретроспектива.
Интерьерный портрет Муравья.
— Послушай, Чемпион! Перед тобой, — Муст широко улыбнулся, — твои поклонники. Мы обожаем метких стрелков.
— Что ж, приятно слышать, — ответил Мур, ища глазами отошедших жену и дочку.
— Оставь женщин, — с шутливой укоризной прикоснулся Муст к руке Семиверстова. — У нас тут серьезный разговор намечается.
— Выкладывайте свой разговор, — заметив гуляющих неподалеку Таму и Ва, добродушно ответил Мур.
— Чин хочет тебя нарисовать. Сам он парень деликатный — робеет сказать.
— А чего робеть, — Семиверстов приобнял Чина за плечи. — Давай, рисуй.
— Для этого необходимы условия, — обрадовался Муст. — Живопись — дело интимное. Нужно найти спокойное место, где никто не будет мешать.
— Есть такое место, — ответил Мур, — у меня дома. Мы там соберёмся, когда мои уедут на дачу. Годится?
— Конечно, — чуть слышно сказал Чин.
— Ну и ладно. А сейчас мне надо уйти. Видите, меня ждут, — он кивнул в сторону жены и дочери. — За пиво уплачено. Пока!
Сам Чин похож на японца с гравюры: покатая с пузцом фигура, легкая растительность над верхней губой и по краям челюстей.
— Ты когда–нибудь убивал, Чин?
— Что ты?
— Я имею в виду не людей.
— Тогда другое дело! — Я деревенский: рубил курам, отрывал голубям головы.
— Отрывал?
— Простое дело. Берешь птичку — «хрясь!» топориком или между пальцев зажимаешь головку: встряхнул, и она осталась у тебя в руках.
Вовс оживился:
— А я кроликов убивал. Держишь на весу за задние лапы, а другой рукой по затылку его. Коротко этак, ребром ладони. Резко — по ушам. А вот овцу не мог. Уж очень она смотрит. Взгляд её душу тебе переворачивает.
— Ладно, хватит, нашли тему!
«Всемилостивая» — молитва Богородице Серафима Саровского.
Мур Семиверстов и Ню:
— Мы живём в неестественных условиях, потому и бросаемся друг на друга.
— Лучше, конечно, бросаться друг к другу.
— Дело, как видим, простое. Надо всего лишь поменять предлог.
— Что хочу, то и делаю. Но это ещё не свобода. Свобода — когда чувствуешь себя защищённым.
Семиверстов и Пиза:
— Господи Боже! Кого я вижу! — неподдельная радость сразу.
Муравья всегда смущают бурные чувства. И чтобы, как всегда, скрыть свою конфузливость, он брякнул, что пришло на ум:
— Ты видишь перед собой кусок старого мяса и не более того.
Пиза рассмеялся:
— А ты всё такой же обер мот?
— А что ж со мной сделается? Времени прошло не так уж много с тех благословенных пор.
Они же после возлияния:
— Одни ушли в борьбу против других и погибли. Другие победили, чем тоже погубили себя. Правы оказались третьи — те, которые возлюбили обычай, то есть ушли к себе, где с молитвой победили себя.
— Сомнительные личности и паяцы пришли к власти и правят нами. Гений был прав. Мы доживаем век тьмы. Неужели придут Гоги и Магоги?
— Град Господень — спаситель лучших. Не забыть бы об этом среди утончённого разврата! Тут и решится однажды всё: с кем ты останешься.
Муст и Вовс:
— Надо крепить себя, укреплять народ. Сделаем это, станем счастливы!
— Но ведь лишены страхосогрешения лишь те, кто не ведает, что творит.
— Чего же ты хочешь?
— Замолчать. Если бы все правые и виноватые замолчали хотя бы ненадолго, мир изменился бы к лучшему.
Квалификация Муравья Семиверстова: «Стрельба из пневматической винтовки и произвольного пистолета».
Семиверстов:
— Я из рода пахарей. Мне бы за плугом ходить. Видишь, какие руки, ноги у меня. А я сижу, учу стрелять.
Вовс — Мусту:
— Одно дело — бумажная мишень. Из–под неё кровь не течёт.
Я знаю: есть мир, где всё, что нам кажется здесь неживым, там живо и разумно. Гений.
Не рассказывай всё, что знаешь — это опустошает. Автор.
Сквозь подсолнечник бежать больно. Автор.
Победители непобедимы. Пиза.
Победители — побудители. Он же.
Мур Семиверстов — всем:
— Всё время слышу её голос. Издалека доносится. Так она всегда звала меня со двора. Пойдёт на улицу и обязательно какую–нибудь игрушку забудет, чтобы крикнуть: «Папа! Папа!» Станет под балконом и кричит. Из своего детства и моей молодости…
— Она не забывала — прокомментировал Терентий, — Она его так любила, что лишний раз хотела увериться; папа не умотал куда–нибудь на стрельбы.
Любовь — это жвачка: сначала сладко, а затем безвкусная резинка пузырём.
Афоризм, который особенно часто можно слышать от Пизы.
Кто такой Пиза? И почему опять — возмутится читатель — имя такое?
Отвечаю. Пиза — итальянец местного разлива. Так, во всяком случае, он сам объясняется, когда возникает этот вопрос.
Ничего удивительного. Испокон века наши края были колониальными территориями. Каких только народов тут не поперебывало. Однако есть на Свете справедливость. В конце концов, мы вернули себе наше, а бывшие колонизаторы, постепенно аборигениваясь, мало чем теперь от нас отличаются. Наиболее романтические натуры среди них такие, как Пиза, например, играют на своих глубоко уходящих корнях старую песню крови. Отнюдь это не национализм. Обыкновенное это, если хотите, провинциальное пижонство, иногда безотказно действующее на прибывающих в курортную зону маменькиных дочек из столиц.
На такой и женился Пиза (вторично). Этот брак и породил кучу его весьма остроумных афоризмов, некоторые из коих уже прозвучали в нашем повествовании.
Это по поводу Серафима Спуна Пиза впервые изрёк свой афоризм о любви–жвачке. Этот Серафим Спун — лесничий — часто не ночевал дома. Сутками сидел на кордоне, подстерегая браконьеров.
Однажды, вернувшись, обнаружил на своём законном месте, т. е. слева от жены, чужого мужика. Никакого скандала интеллигентный Спун не допустил. Развёлся и дело с концом. Пиза, приветствовавший это событие, сформулировал его предельно кратко: «Дело с концом». Расставшись с неверной, так в полной мере и не осознавшей степень своей вины, женщиной, Серафим, как это свойственно мужчинам с гипертрофированным чувством чести, оставил ей и только что привезённые оленьи рога для прихожей, и всю квартиру с обстановкой.
Буквально на следующий после развода день взял план и начал строиться прямо на кордоне.
На уровне фундамента произошла заминка, поскольку раздобыть ни камня, ни кирпича долго не удавалось. Все лимиты и резервы уходили аборигенам. Возвращающимся на родину приоритетно отдавались и все другие стройматериалы. Но и у репатриантов были проблемы. В первую очередь с лесом. Местные леса жидковаты. Да и заповедные. А с материка, в связи с эмбарго на все виды экспорта, лес почти не поступал. И вот как раз материал на стропила, полы и прочую столярку Серафим раздобыть мог по своим старым лесхозовским связям.
— Я тебе лес. А ты мне кирпич, — предложил Мусту Спун.
— Пока не завезёт камень, ничего не давай, — посоветовал другу Пиза.
На что кристальный Серафим изумился:
— Почему?
На что в свою очередь изумился Пиза, но терпеливо пояснил:
— Чужая душа в потёмках.
Муст завёз ракушечник и на той же машиной забрал пиломатериалы.
Деликатный Спун не хотел припоминать Пизе его позорное недоверие к аборигенам. Но Пиза снова поостерег однокашника, когда тот поведал о предложении Муста.
— Завязывай, не то завязнешь.
Дело в том, что Муст попросил Спуна пустить отару в заповедник, на альпийскую траву яйлы. Простодушный лесничий согласился: всё одно трава сгорает, пускай бедные репатрианты пользуются. Да и браконьеру будет сложнее при таком присутствии орудовать.
И всё было бы хорошо, если бы Муст не допустил на яйлу третьих лиц. Именно эти третьи лица — Соя и Мажар — заварили на малодоступном плато кашу, расхлёбывать которую пришлось и долго, и тяжело.
Пур — Шпагатов, из цикла «Инсинуации»:
«Девочки «Афродизиака» раздеваются под птичье пение. У каждой стриптизерши своя пташка. Одна это делает под соловья, другая — под малиновку, а кто–то даёт дрозда…»
Пур — Шпагатов ещё в студенчестве страдал от репортёрского зуда. Сидя на задней скамье в обществе ещё двух–трёх бездельников, выпускал ежедневную газету «Унитасс», иногда весьма весёлую, правда, юмор крепко отдавал клозетом.