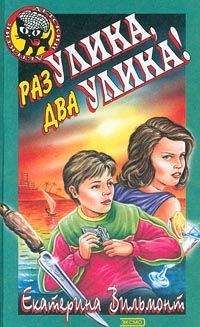Тутошняя серость тащится от собственного величия. Пур — Шпагатов.
Всегда завожусь, когда вижу, как серость тащится. Он же.
Деньги свои Пур — Шпагатов сделал так. Издавал подделки ходовых произведений зарубежной масслитературы. Не имея возможности достать подлинники, да и языком, чтобы перевести, он не владел, Пур — Шпагатов красиво по памяти сочинил всё сам. Так задолго до появления подлинников нетерпеливый читатель получил фальшивых «Гиганта любви» и «Деньги — это слёзы». Когда же мошенничество было разоблачено, Ной («девичья» фамилия Пура) никакого ущерба не понёс, ибо оказался предусмотрительным шулером. На титульных листах его опусов значилось мелким, едва заметным шрифтом: «Фантазия на тему».
Шпагатова покусала незнакомая собака. В травмопункте так и записали: «Покус произведён неизвестной собакой». А это значило, что несчастному сочинителю мультяшек и детских песенок назначается серия уколов в живот. На весь период вакцинации пострадавшему предписывалась строгая диета, категорически исключающая всякое спиртное, в том числе пиво, а так же острые блюда, маринады и горький перец.
Сгоряча он стал рьяно соблюдать все эти требования. И стал ещё тощее, нежели был. Ещё бы, пришлось сидеть на кефире да помидорах. Ну, и на прочих овощах натюрель. Сам Шпагатов готовить не любил, потому что не умел. А в общепите — надо понимать, юг — все блюда сдабриваются «огнеопасными» специями и уксусом.
Изнемогающий Пур на ту беду вдруг где–то прочёл, что и кефир, особенно, несвежий, содержит некое количество алкоголя. Пура чуть Кондратий не хватил. Испуганный, он прибежал в противобешенский кабинет, с вопросом: «Почему не предупредили, что и кефир нельзя?» А ему хладнокровно отвечают: «Запрети мы укушенным ещё и кефир, с голоду, а не от бешенства все поокочурятся!» «А если меня паралик разобьёт?» — стенал мнительный Шпагатов. На что ему с издевательским спокойствием было пояснено: «Степень вероятности ниже одного процента». Мистик не только по творчеству, но и по натуре, наш писака воспринял эту отповедь как приговор. В тот же день пошёл к Пизе и напился. Поскольку ни на йоту не сомневался, что те злокозненные несколько десятых процента — его и более никому не достанутся.
Вертолет — ветролет. Автор.
Словно ветром несло вертолёт.
— Много сотен на яйлу не закинешь. А пару десятков, для расплоду, вполне вертолёту по силам. За три года овцы размножились, волков нет, воры не пройдут.
— Что ж, пожалуй, — согласился майор. И добавил: — Будем искать вертолёт.
— Здесь вы будете пасти овец. А эти двое, — Муст качнул головой, виском указуя на Ыма и Лую, — будут помогать вам и присматривать за вами.
— Ты нам не доверяешь? — уточнил Максимильянц.
— Не в том дело. Просто я хочу быть уверен за отару. Если вы плохо будете работать, я могу потерять достояние. Эти овцы кормят мой род. Одевают, обувают моих детей. Дают деньги на постройку домов.
— Но что может статься с ними?! — удивился Ал.
— А всё что угодно. Могут упасть вниз, подохнуть от жажды или болезни.
— От болезни гарантировать не можем, — всё тот же Ал.
— И не надо. Вы обязаны будет, в случае чего, сказать Луе. Она хороший ветеринар. Если вы не допустите падежа, я вам хорошо заплачу. Единицы не считаются. Раз в десять дней Ым будет забивать барашка на пропитание. Но вам придётся кое от чего отказаться. Никакой водки. С едой проблем не возникнет. Тут есть огород. Хлеба городского не обещаю. Зато каждый день свежие пышки. Луя хорошая кулинарка. Вы будете тут неотлучно.
— Все четыре месяца? — Ли сказал эти слова тихо и с грустью.
— Пять, — поправил Муст. — Не так уж и долго. Горный воздух, отличное питание. Курорт, да и только.
— У меня семья, — заикнулся Ли.
— Станет невтерпёж — Ым предоставит вам бабу. Естественно, в счёт заработанного.
— Бабу? — повеселел Максимильянц. — Откуда тут бабы?
— Ым знает своё дело. Положитесь на него.
— И задорого?
— Как договоритесь.
— А бумаги? — это снова тихий Ли.
— Какие бумаги?! — поднял короткую бровь Муст. — Зачем? Терпеть не могу бюрократизм разводить. Если вы мне не верите, скажите сразу. Не будем затевать отношения. Я найду других. Только свистну, сотня набежит. Безработица мне на руку.
— Ладно, ладно! — быстренько перебил Муста Максимильянц. — Мы тебе верим.
— Ну что ж, айда на кошару! А я вниз. У меня там дел много.
Оружие — Семиверстову:
— Нажми, нажми курок. И я выстрелю в самую десятку.
— Ах, ты моя «пушка», пушинка! Хорошо стреляешь, метко!
Обрывки фраз:
— Поди–ка ты к Пизе фиг пожевать!
— Говорят, что яблоко, которое дала Адаму Ева, было гранатом.
А был ещё Евлампий, которого Пур — Шпагатов для краткости называл Ева.
Сое казалось, что спит и видит. Он поражался тому, что за столь краткий срок разлуки так много успел позабыть. Успел от этого всего отвыкнуть до такой степени, что теперь, стоя на углу, где некогда любил толочься, просто не верил глазам своим и даже не узнавал многого. В первую очередь, конечно, этого заведения с богатой неоновой вывеской на крыше, роскошной двустворчатой, дорогого дерева дверью на главном входе.
У кончика хищного носа теснились разнообразные запахи. Одни дразнили, другие раздражали. Третьи вызывали ассоциации. До того момента, пока не явился этот самый, что ни на есть вожделенный. Он затмил, перебил все иные запахи и повёл за собой. Повинуясь ему, раздувая ноздри, Соя двинулся вперёд. И вскоре очутился на каких–то задворках перед раскрытой дверью, из–за которой доносились местные напевы и валом валил, заливая всё окрест, этот самый аромат жареного мяса, приправленный теперь ещё и шумом оливкового масла.
«Здесь всё делают открыто, — в экстазе подумал Соя, — а это значит, что я на самом деле дома».
Он вздохнул и прослезился. Глаза прижгло, но слёз не было.
Уже спустя минуты, насытившись духом кухни до изнеможения, Соя покинул задний двор «Афродизиака». Он уходил, покачиваясь, словно накурившийся травки.
Соя сидел за стеклом и курил. Дым валил из ноздрей и ушей. Напарник, едва просматривавшийся в глубине машины, недовольно ворча, суетливо разгонял дым руками. Но курчавая синева дыма оставалась недвижной.
К машине кинулся невысокий холопец — растрёпанный, небритый и, похоже, пьяный.
— Дядя?! Откуда вы тут?
Соя надул щёки и шевельнул массивным рыхлым носом.
— Я слыхал, что вы, извините, умер!?
Соя отвернулся и неотрегулированно кашлянул.
Но племянничек ничего странного в его тембре не расслышал.
— Извиняй! Я расстроился, когда услыхал ту новость. И напился. А как же. Ведь вы у меня был заступником. А теперь я беззащитный совсем, — племяш заплакал, — а ведь я даже тогда не плакал. Откуда вы тут взялся?
— Я пришёл не с той стороны, с какой ты думаешь, Мажар.
— Главное, что вы живой и поможешь мне.
— Я теперь всего лишь водитель, — голос опять сорвался.
Мажар удивлённо уставился на того, кто сидел на заднем сидении.
— Помоги! Они хотят меня откоцать. А может быть, и похоронить.
Племяш попытался схватить равнодушного дядю за руку и промахнулся. Вернее — ему показалось, что он промахнулся. И Мажар подумал, что это у него от жары и жажды такие накладки в мозгах. Мажару хотелось пива. Но назад на улицу Гения он возвращаться боялся. Там ждала его банда Якова — Льва.
С детства Ню звали Колировкой. С возрастом стало очевидно для всех — прозвище как нельзя соответствует. Даже на фоне Дамы, — с которой она росла до невест, — объемами не мизерной, Ню выглядела настоящей гигантессой. Рядом с ней и окрест все женщины казались мелкими дичками, лесными грушами. Тогда как Ню являла собой настоящий Бергамот.
В «Афродизиаке» она командовала инвентарной частью, отвечала за кухню лично перед Пизой, которого уважала, но не боялась, как бабочка огня, ещё с отроческих лет, ибо была им побита за то, что какое–то время самым бессовестным образом хотела влюбить его в себя.
— Вот баба! — восхищался иностранец, глядя на Колировку, плывущую по улице имени Гения. — Якэ майно!
— У меня идея, босс!
— Идея, если хороша, дорого стоит.
— Сколько заплатишь?
— А сколько скажешь.
— Пусть у каждого сидящего за столиком «Афродизиака», будет большая, белая в рыжих веснушках ракушка.
— Зачем?
— Пусть гости рассматривают её. Слушают её, даже пьют из неё вино.
Пиза поглядел на Колировку с восхищением:
— Что ни говори, а большая женщина всегда полна неожиданностей.
— Ты согласен, что сами по себе раковины весьма эротичны.
— Особенно этой внутренней розовостью и загибами по краям. Спасибо, детка.